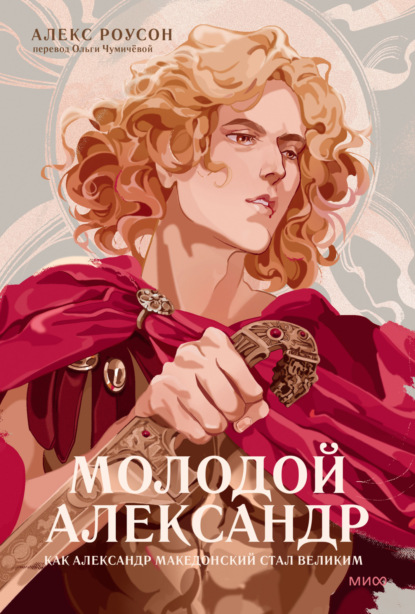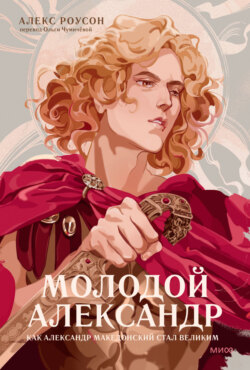
000
ОтложитьЧитал
«Жизнеописание Александра Македонского» Плутарха является частью серии «Параллельных жизнеописаний» – двойных биографий известных греческих и римских деятелей, созданных в конце I и начале II веков н. э. «Жизнеописание Александра» поставлено в параллель с жизнеописанием Юлия Цезаря, и автор использует ряд утраченных ныне источников, касающихся воспитания македонского царя[31]. Плутарха интересовали не столько военные достижения Александра, сколько те эпизоды, которые проявляли его характер. В предисловии он напоминает читателю, что описывает жизни людей, а не мировую историю[32]. Такой подход отвечал интересам Мэри Рено, и она во многом полагалась на рассказы Плутарха, находя в них немало любопытного. Своими чувствами Рено поделилась с давним корреспондентом в Америке Джеем Уильямсом: «Они [историки] снова и снова говорят, насколько он [Александр] был загадочным, сложным и противоречивым; и все же то немногое, что Плутарх может рассказать о его юности, чрезвычайно важно само по себе и особенно если кто-то задастся целью сопоставить это с современными данными… Возможно, я дала неправильные ответы, но я никогда не читала ничего интереснее»[33].
К концу 1960-х годов Рено написала четыре других исторических романа[34]. Она умело погружает читателя в обстановку странного и чуждого нам Древнего мира. Тщательность ее изысканий заставляла многих поверить в то, что она обладала едва ли не сверхъестественной способностью заглянуть в далекое прошлое. Роман «Небесное пламя» оказался особенно важным по многим причинам. Это не только захватывающее повествование, но и переосмысление ранних лет жизни Александра. Рено заставляет читателя задуматься о реалиях того времени, а также о факторах, сформировавших личность выдающегося человека. Основное влияние, по мнению Рено, на Александра оказывали его отношения с родителями, Филиппом и Олимпиадой. Писательница представляет их в предельно драматической манере.
Посчитав змею одним из питомцев матери, Александр крадется из детской, оставив спящую младшую сестру и няню. Он идет по темным дворцовым коридорам, мимо стражи и поднимается по лестнице в комнату матери. Там они лежат вдвоем на царской кровати, прижавшись друг к другу. Александр спрашивает ее, кого она любит больше всего. Он показывает ей змею, но она ее не узнает. Олимпиада говорит, что это даймон Александра, то есть посредник между богами и людьми, который может помочь определить судьбу человека. Он называет ее Тюхе, или Фортуна.
Идиллическую сцену внезапно нарушает приход пьяного Филиппа. Дверь распахивается. Даже не глядя на кровать, царь начинает раздеваться, собираясь взять то, что принадлежит ему по праву супружества. Александр прячется под одеялом, его серо-голубые глаза расширяются от ужаса. Через щель он наблюдает за отцом – обнаженным и возбужденным, покрытым шрамами, со слепым глазом, выбитым стрелой. Олимпиада протестует против вторжения, и они обмениваются оскорблениями. «Ты молосская сука», – говорит он. «Ты бурдюк с вином», – возражает она. Филипп бросается на нее, как мифический циклоп Полифем на добычу, но в ужасе обнаруживает, что рядом с Олимпиадой лежит ее любимая змея Главк. «Как ты смеешь, – кричит он, – приносить эту нечисть в мою постель, когда я запретил тебе это делать? Колдунья, варварская ведьма…» Затем его единственный здоровый глаз останавливается на ребенке. Отец и сын обмениваются стальными взглядами. Он замечает змею-даймона Александра, все еще обвивающую его талию. «Что это на мальчике?.. Ты чему его учишь? Ты превращаешь его в бродягу, танцующего со змеями и выкликивающего предсказания?»
Разгорается жаркий спор об их происхождении и опыте, каждый пытается умалить претензии другого на греческое происхождение. Филипп хочет ударить жену, но маленький Александр вскакивает, вставая на защиту матери. «Уходи! Она тебя ненавидит! – кричит он, тыча крошечными кулачками в протянутую руку Филиппа. – Уходи! Она выйдет замуж за меня!» В конце концов отец вышвыривает его из комнаты, как тряпичную куклу, которую отбрасывают ссорящиеся дети.
Всего на нескольких страницах Рено описывает одну из самых странных семейных историй: неблагополучные отношения отца, матери и сына, столь же бурные, как зимнее море. Не всё из этого вымысел, древние источники свидетельствуют о трудностях в отношениях членов царской семьи, хотя связывают их с более поздним временем, когда Александр достиг совершеннолетия. Жизнь Филиппа и Олимпиады долгое время оставалась в тени фигуры их знаменитого сына, но нет никаких сомнений, что они были выдающимися личностями и их влияние на Александра не ограничивалось генами, которые они ему передали. Оба родителя оставили неизгладимый след в его характере и жизни. Любой рассказ о юном Александре должен начинаться с его матери и отца.
МИСТЕРИИ
В древности остров Самофракия (современный Самотраки или Матраки) славился тремя вещами: отличным луком, плоскорогими козлами и мистериями Великих богов – странным религиозным культом, доступ к которому открывался только через тайную церемонию посвящения[35]. Строго запрещалось разглашать любую информацию об этих таинствах, а потому известно о них немногое. Загадочными остаются даже сами «Великие боги». Один эллинистический ученый отмечает, что их было четыре: Аксиерос, Аксиокерса, Аксиокерсос и Кадмилос, хтонические божества, вероятно связанные с подземным миром, с которым они отождествляются наподобие Деметры, Персефоны, Аида и Гермеса[36]. Центральная роль в культе отводилась Великой Матери, богине плодородия, которую изображали на местных монетах. На материке этих богов называли Кабирами, но в самофракийских надписях они упоминаются только как «боги» или «Великие боги» (Megaloi Theoi). Вполне возможно, что отчасти именно анонимность привлекала к ним людей. Известно, что им приписывали способность предотвращать кораблекрушения и даровать посвященным особое благочестие и праведность, благодаря чему люди становились лучше во всех отношениях[37]. В древности эти божества глубоко почитались, и, несмотря на удаленность острова, мистерии привлекали многих известных личностей того времени, включая Ясона и аргонавтов, странствующего Одиссея, историка Геродота и, в середине IV века до н. э., – родителей Александра Македонского. Согласно Плутарху, именно здесь впервые встретились Филипп и Олимпиада.
Это событие произошло, вероятно, в 357 году до н. э. Филиппу, сыну Аминты III, было тогда немногим больше двадцати лет, и он правил около трех лет. Его брат, бывший царь Пердикка III, погиб в битве против иллирийцев вместе с четырьмя с лишним тысячами своих людей. Он оставил сына, которого тоже звали Аминта, но он был слишком мал, чтобы взойти на трон. Эта ситуация до сих пор вызывает споры среди ученых, вполне вероятно, что Филипп сначала стал опекуном Аминты и нового царя официально не провозглашали[38]. Македонию со всех сторон окружали соперники и враги, царство находилось на грани гибели, но Филиппу удалось исправить положение. Решительность, дипломатия и хитрость помогли ему не упустить драгоценное время, укрепить свои позиции и воссоздать армию. В детстве он был заложником в Иллирии и Фивах – доминирующем городе-государстве Греции того периода, – что позволило ему ближе узнать обычаи греков и варваров, а также реформировать свои войска. Уже через год он был готов идти в наступление. Победив пеонийцев на севере (в современной Северной Македонии) и заручившись их поддержкой, он повел армию нового образца на запад, на иллирийцев. Из суровой битвы со старым воякой царем Бардилом (или Бардилеем) Филипп вышел победителем. Иллирийская угроза была на время устранена, что несло с собой значительные перемены в распределении власти в регионе[39]. Впоследствии Филиппу удалось объединить под своим протекторатом остававшиеся прежде независимыми кантоны Верхней Македонии, благодаря чему он фактически удвоил размер своего царства. В Фессалии Филипп восстановил добрые отношения с городом Ларисой, урегулировав его спор с соседями – тиранами города Феры, – а затем обратил взор на восток.
Ключевой порт Амфиполис, расположенный на реке Стримон недалеко от восточных границ Македонии, был основан афинянами, но объявил о своей независимости во время Пелопоннесской войны. Афиняне, обладавшие целой плеядой портов на побережье Македонии, отчаянно пытались вернуть город под свое управление. Филипп дал понять, что поможет им в этом. Последовала длительная осада, но когда Амфиполис пал, македонский царь решил оставить порт себе.
За короткий срок Филипп подтвердил свое право на господство, и вполне вероятно, что примерно в то же время, то есть в конце 357 или начале 356 года до н. э., македоняне провозгласили его царем. Отныне его будущие сыновья при благоприятных обстоятельствах могли претендовать на престол. В то время распространялись древние пророчества о том, что Македония достигнет больших успехов при одном из сыновей Аминты III, и было мнение, что речь именно о победах Филиппа[40]. Вероятно, после великой победы над Амфиполисом Филипп отправился на остров Самофракия, находившийся в одном дне плавания от города-порта. Там он встретил юную царевну из царства Молоссия в Эпире, на северо-западе Греции. Ее звали Поликсена, а также Миртала (Миртла), но позже она стала известна как Олимпиада[41].
Сегодня между материковым Александрополем и Самофракией курсируют надежные паромы, которые перевозят на остров туристов, а не паломников. Над чернильно-синими просторами моря Самофракия вздымает гористую главу, медленно сбрасывая полог тумана и обретая ясные очертания. По мере того как паром продвигается на запад, к главному порту, показывается острая вершина горы Саос, серой и грозной, как глаза Афины, часто окутанная облаками. Она кажется зловещей. Лоренс Даррелл, написавший книгу о путешествиях по греческим островам, так и не добрался до Самофракии, но записал свои впечатления от моря: «Оно мрачное, варварское; мне оно ничуть не понравилось; я чувствовал, как каннибалы готовят котлы». Он предпочел остаться на борту корабля[42].
Поначалу остров выглядит негостеприимным, пустынным куском скалы посреди покрытого рябью волн Эгейского моря, но затем открывается иной пейзаж, простирающийся на север и запад: покрытые сухой травой пастбища и возделанные поля. Рощи олив, каштанов, платанов и дубов добавляют приятные глазу штрихи яркой зелени, сгущаясь вокруг подножия горы и рассеиваясь вверх по склонам, на которых гнездятся стайки белых домов, похожих на рассыпавшиеся морские ракушки. Известно, что местная почва обладает магнитными свойствами; те, у кого кровь богата железом, могут физически, на уровне тела ощутить притяжение Самофракии.
Прибытие каждого парома вдыхает новую жизнь в портовый городок Камариотисса. Начинается разгрузка товаров, оживают кафе, один поток посетителей сменяется другим, множество цикад оглушительным стрекотом приветствует всех прибывших. Среди туристов много подростков. Летом они колонизируют северные кемпинги острова, проводя праздничные месяцы в беззаботном чаду вечеринок у костра и купаний в сумерках – таков современный обряд посвящения молодых греков. Самофракия с ее густыми лесами, живописными водопадами и длинными галечными пляжами ярко выделяется в пестром узоре греческих островов.

Самофракия. Фотография автора
Святилище Великих богов находится примерно в шести километрах к востоку от порта. Оно притаилось в расщелине горы. Близлежащий древний город Самофракия, ныне известный как Палеополис (Старый город), служил воротами к святилищу. На открытом склоне горы Соас на площади в пятьдесят акров хватало места и для домов, и для магазинов, и для общественных центров. Здесь паломники отдыхали и готовились к волнующим таинствам, которые проходили ночью; полог тьмы только усиливал ощущение загадочности, непостижимости происходящего. Возможно, что группы македонян и молоссов встретились на ежегодном празднике, который, как считается, проводился летом, хотя церемония устраивалась в любое время года, отчасти из-за труднодоступности острова.
От древнего города мало что сохранилось, за исключением впечатляющих стен, высота которых в некоторых местах превышала шесть футов[43]. По всей длине есть остатки башен и ворот, местные козы часто используют их в качестве удобных возвышений, с которых можно следить за посетителями. Одна часть оборонительных сооружений тянется в гору к вершине Фенгари – Лунному пику, с которого, согласно рассказу Гомера, бог Посейдон однажды наблюдал за сражением Троянской войны. Время от времени с этой вершины обрушиваются столь мощные порывы ветра, что деревья принимают странные скрученные формы, подчеркивая необузданный, неукротимый нрав острова. Шторм здесь может возникнуть из ниоткуда; в прошлом те, кого он заставал в море, молили Великих богов о спасении. Воздев руки к небу на палубах своих кораблей, они сулили дары и жертвы в благодарность за шанс пережить это испытание. Святилище было усеяно такими подношениями, хотя один циник лукаво заметил, что «их было бы гораздо больше, если бы дары приносили те, кто не сумел спастись»[44].
Когда в IV веке н. э. христианство стало официальной религией Римской империи, культ Великих богов пришел в упадок и в конце концов исчез. Святилище было заброшено и стало разрушаться. В истории оно вновь появится лишь в 1444 году, когда на остров прибудет Кириак из Анконы, итальянский купец и выдающийся путешественник. Он входил в круг гуманистов эпохи Возрождения и избрал своей миссией поиск благородных памятников Античности, их описание и по возможности сохранение. Когда его однажды спросили, зачем он этим занимается, он ответил: «Чтобы пробудить мертвых»[45]. Кириак знал о связи острова с предысторией Александра и решил исследовать то, что еще оставалось от древней славы этого места. В дневнике он описал встречи с далекой эпохой, включая городские стены и обширные руины храма, который, как он считал, был посвящен Нептуну (Посейдону), а также «фрагменты огромных колонн, архитравов, оснований статуй и дверных проемов, украшенных гирляндами из черепов крупного рогатого скота (букрания) и другими очень красиво и искусно высеченными фигурами», одну из которых он принял за Аристотеля[46]. Кириак провел октябрьский день с губернатором острова, документируя некоторые ключевые открытия, делая наброски и расшифровывая надписи. В этом он был пионером новой дисциплины – археологии. С тех пор по его стопам шли многие пытливые умы. Греки, австрийцы, немцы, французы, чехи и совсем недавно американцы внесли свой вклад в изучение остатков святилища[47]. Их труды позволили реконструировать элементы обрядов посвящения и в новом свете представить легендарную встречу Филиппа и Олимпиады.
Будущие посвященные и старейшины культа собирались у западных ворот города перед закатом. Вместе они смотрели на багрово-алое небо над ущельем, в котором скрывалось святилище, на бледное лицо госпожи Луны, восходившее над их головами и неспешно двигавшееся к горной вершине, названной в ее честь. Землю постепенно заливало призрачное серебристое сияние. Наконец следовал знак. Вереница факелов и мерцающих масляных ламп цепочкой тянулась через узкие ворота, мимо россыпи оливковых деревьев, вниз к горному ручью, который обозначал границу между священным и мирским: ледяная вода очищала всех желающих проникнуть во владения Великих богов. Не всем разрешали переступить эту черту. Сначала совершалось священное возглашение, которое определяло, кто готов участвовать в мистерии. Нечистые туда не допускались[48]. Во время отбора пришедших для посвящения могли спросить о худшем поступке в их жизни[49]. Филипп был типичным представителем царского семейства Македонии, у него, безусловно, были свои мрачные секреты. Возможно, он уклонился от неловкого вопроса, ответив в той же манере, что и спартанец Анталкид: «Если мною и было совершено подобное деяние, то боги об этом знают»[50].
Оказавшись внутри, посвященные спускались к восточному холму, а культовые постройки оставались ниже, скрытыми от взора. Первой из мрака возникала таинственная блюдцеобразная структура – так называемый театральный круг. Лунный свет озарял мощеные ступени, на которых посвященные должны были занять места – но не сидя, а стоя. Подсчитано, что в этом кругу могло разместиться около трехсот человек, но чаще приходили гораздо меньшие группы[51]. Совместно пережитый опыт посвящения объединял их – незнакомцы из отдаленных стран становились сообществом. Вероятно, именно этот круг служил местом для священных наставлений перед самой мистерией, здесь каждый получал специальную чашу для возлияний – вино, которое надлежало вылить на многочисленные каменные алтари и в ритуальные ямы, считавшиеся порталами в подземный мир. Здесь же, возможно, проводился ритуал возведения на престол (троносис), участники которого садились на специальный стул, а вокруг них скакали устрашающие танцоры-воины с мечами и копьями, издававшие боевой клич, ударявшие в тарелки и барабаны, чтобы напугать и дезориентировать неофитов[52]. Один из самых известных самофракийских мифов рассказывает о встрече и бракосочетании финикийского героя Кадма с Гармонией, произошедших на этом острове. «Даже сейчас в Самофракию отправляются на поиски ее [Гармонии] на праздниках», – отмечает один древний автор[53]. Участники церемонии могли участвовать в священной игре в прятки, воспроизводя таким образом историю о мифическом союзе.
Священный путь вел из театрального круга вниз, в лоно святилища. Опасный спуск призван был распалить предвкушение. Само святилище представляет собой укромное место, особенно в ночное время: оно было окружено крутыми склонами долины и рассечено горным потоком. Повсюду виднелись силуэты древних зданий, своеобразная мозаика разных эпох; их изломанные формы, вероятно, возникали из сумрака, словно чудища. Кропотливая работа археологов помогла восстановить и датировать большинство этих руин. В середине IV века до н. э. культовых сооружений было немного. Самыми важными, по всей видимости, были прямоугольный зал или помещение, занимавшее центр долины, под которым обнаружили самые ранние следы ритуальной деятельности: слой пепла, глиняной посуды и обожженных костей, датируемый VII веком до н. э.[54] Судя по расположению, это был конечный пункт на пути посвящения.
Плутарх уподобляет путь посвященных полету души в момент смерти: «Вначале есть блуждание и скитание, утомление от бега туда-сюда и беспокойные странствия во мраке, не достигающие цели, а затем, непосредственно перед окончанием, всевозможные ужас, озноб и дрожь, истечение пота и изумление». Войдя в зал посвящения, они сталкивались с необыкновенным светом, в котором как бы воссоединялись Кадм и Гармония. Плутарх продолжает: «Там были голоса, пляски и торжественное величие священных и святых видений»[55]. Откровение древних мистерий обычно включало в себя «то, что делается, то, что показывается, и то, что говорится», посредством чего посвященные проникали в тайны культа и видели священные предметы[56]. Магнитная геология острова наверняка играла свою роль в заключительных ритуалах церемонии. Римский писатель Лукреций утверждал, что наблюдал «самофракийскую железную пляску, когда железные опилки сходят с ума в бронзовой чаше, стоит подложить под нее магнитный камень: так железо стремится вырваться из камня»[57]. В глазах суеверных зрителей это было доказательством силы Великих богов, и этот трюк, вероятно, не раз демонстрировали неофитам. Можно лишь догадываться, насколько всем этим проникались посвященные. Во время церемонии жрецы употребляли много архаичных слов, которые большинству участников, наверное, казались тарабарщиной[58].
Каждому новому посвященному вручали пурпурный пояс и железный перстень – талисманы, олицетворявшие его новый статус. За этим непременно следовали празднества, атмосфера головокружительной святости уступала место музыке и танцам, топающие ноги поднимали облака пыли, в свете факелов тела двигались под звон и рокот тарелок, барабанов и мелодию флейт. Потом на западном холме устраивали пир. После предшествующих дней поста и воздержания рекой лилось вино, звучали песни и смех, а сексуальная энергия смешивалась с мистикой сакральной ночи. Следы самых ранних банкетных залов найдены вдоль берегов горного ручья: они располагались под платанами и служили прибежищем летучих мышей. В этом контексте уместно обратиться к истории первой встречи Филиппа и Олимпиады, о которой рассказывает Плутарх: «Нам говорят, что Филипп, будучи посвященным в самофракийские мистерии одновременно с Олимпиадой, сам был еще юношей, а она была дитя-сирота, и он влюбился в нее и тотчас же обручился с ней с согласия ее брата Аримбы [= Ариббы]»[59].
В достоверности этой истории сомневались многие: «островной роман» казался слишком надуманным, чтобы быть правдой. Конечно, есть некоторые элементы, вызывающие подозрение: указанный Плутархом возраст сомнителен, а его вводная фаза, «нам говорят», не позволяет тщательно изучить первоисточник, на который он опирался[60]. Драматическая любовь с первого взгляда может быть преувеличением, но есть основания верить в правдивость самого факта встречи на Самофракии в период мистерий. Филипп, как и Александр, интересовался знаменитыми святилищами и посещал их, когда находился неподалеку. Подражание героям прошлого, тоже посвященным в культ, могло стать для него решающим аргументом. Кабиров, или Великих богов, широко почитали во Фракии и на севере Эгейского моря. Для Филиппа это был шанс заявить о своем благочестии в регионе, где он проявлял все большую военную и политическую активность. Более того, Македония оставалась крупным экспортером корабельной древесины. Правитель, преданный богам, которые обещают спасение на море, выглядел привлекательно.
Встреча, очевидно, была организована заранее, хотя неизвестно, кто ее подготовил. Молоссы преодолели большее расстояние, поскольку их родина осталась в Эпире, гористой местности к западу от Македонии. В недавнем прошлом они также пострадали от иллирийской агрессии. Вторжение Бардила вынудило многих жителей бежать в соседнюю Этолию, и только с помощью партизанской тактики им удалось спасти свое царство[61]. Некоторые кантоны Верхней Македонии были на стороне молоссов, и политика объединения Филиппа могла повлиять на их решение искать новый союз. Царь Арибба – дядя и сводный брат Олимпиады – вероятно, отправился на Самофракию в надежде на стабильное будущее. Филиппу это давало шанс обезопасить свою западную границу.
Олимпиаде, вероятно, было лет 14–16 – в ту эпоху подходящий возраст для замужества. Она принадлежала к правящему роду Эакидов – потомков Эака, отца Пелея и деда Ахилла. Ее мать, возможно, была из хаонийцев, еще одного эпирского народа, возводящего свою родословную к царям Трои[62]. Ее корни подчеркнуто гомеровские. Неоптолем, отец Олимпиады, какое-то время управлял царством совместно с Ариббой, но около 360 года до н. э. скончался, и Олимпиада, ее брат и сестра – Александр и Троада – попали под опеку Ариббы. Он женился на Троаде и теперь стремился использовать Олимпиаду для укрепления и расширения своей власти, однако прочный союз с Македонией зависел от ее способности родить наследников. О чувствах Олимпиады ничего не известно. Брак часто был травмирующим опытом для молодых девушек, вырванных из родной семьи и отправленных в чужой дом, где им предстояло провести всю жизнь. Но это давало Олимпиаде шанс выйти из тени Ариббы и представлять интересы молоссов в новом обществе, сила и влияние которого неуклонно росли. Филипп был молод и красив, и, возможно, между ними возникло взаимное влечение. Помолвка состоялась, и они должны были пожениться уже в Македонии. Новый Кадм обретал Гармонию.
По окончании праздника паломники покидали святилище, оставляя ритуальные сосуды у театрального круга, и возвращались в свои земли. Филипп обрел не только будущую жену, но и прочную связь с Самофракией. Археологи обнаружили, что в середине IV века до н. э. (около 340 года) в центре святилища было возведено грандиозное сооружение с двумя глубокими камерами и портиком с ионическими колоннами, включающее в себя часть более древнего культового здания. Его назвали Залом вереницы танцоров в честь замысловатого фриза, который когда-то опоясывал верхнюю часть фасада. Восстановленные фрагменты представляют ряд танцующих девушек, а архаичный стиль композиции напоминает о древних обрядах и практиках, которые обеспечили культу долговечность. Здание было первым полностью мраморным сооружением в святилище и имеет все признаки архитектуры македонского стиля. Филиппа можно назвать очевидным спонсором, хотя Александр позже критиковал отца за повторное посещение Самофракии в то время, когда тот должен был заниматься другими делами[63]. Финансирование Филиппом строительства вызвало цепную реакцию: его примеру последовали позднейшие эллинистические цари, а затем и римляне. В долине появилось множество мраморных творений и обетных даров, в том числе знаменитая статуя Ники Самофракийской (богини победы). Скорее всего, она была подарком какого-то неизвестного нам победителя или того, кто считал, что удачно воспользовался силой Великих богов на море. Ныне безголовая крылатая богиня находится в Лувре. Облаченная в прозрачные одежды и стоящая некогда на носу военного корабля, она смотрела на театральный круг святилища. Шедевр стал визитной карточкой Самофракии, и в любом магазинчике на острове можно наткнуться на одну из его миниатюрных копий на перегруженных сувенирами полках. Это святилище превратилось в одно из самых прославленных, его мистерии уступали только Элевсинским, проводившимся близ Афин. Для Филиппа святилище стало сценой, на которой он мог демонстрировать свою растущую силу, началом диалога между молодым и амбициозным македонским лидером и внешним миром.
Филипп и Олимпиада поженились в одном из царских центров Македонии, возможно, на празднике в честь Зевса осенью 357 года до н. э., в традиционное для свадеб время. Поселившись в новом доме в Пелле, Олимпиада быстро забеременела. Пока зрел плод, Филипп не прекращал активную деятельность: самофракийское паломничество и последующие празднества были лишь коротким перерывом в политике расширения царства. Он продолжал претендовать на портовый город Пидна в Термейском заливе, отобрав его у афинян, а затем заключил договор с могущественным Халкидским союзом, центром которого был полуостров Халкидики с тремя длинными, выступающими в Эгейское море мысами, расположенный неподалеку от юго-восточных границ Македонии. Этот союз возглавлял халкидский город Олинф[64]. По условиям соглашения Филипп помог союзникам захватить Потидею, еще один укрепленный порт афинян на севере, который помогал им контролировать западную часть Халкидики. Летом 356 года до н. э., в тот самый день, когда он взял город, в лагерь Филиппа одновременно прибыли три послания. В первом сообщалось, что его полководец Пармений победил иллирийцев в очередном сражении на севере; во втором – что царский скакун выиграл на Олимпийских играх; в третьем говорилось о рождении сына Александра. Предсказатели провозгласили непобедимым младенца, чье рождение совпало с тремя победами (при Потидее, в Иллирии и на Олимпийских играх). У Филиппа, несомненно, выдался хороший год, и он молился о небольшой неудаче, чтобы уравновесить полосу везения[65]. Однако для жителей Азии предзнаменования были не столь благоприятными. Говорят, в тот день ужасный пожар поглотил храм Артемиды в Эфесе – одно из семи чудес света Древнего мира. Гегесий Магнесийский утверждал, что такого происшествия следовало ожидать, поскольку богиня пребывала в Македонии, наблюдая за рождением будущего завоевателя. Местные маги сочли это предзнаменованием грядущего масштабного опустошения.
ПРОБЛЕМЫ НАРАСТАЮТ
Александр родился в шестой день македонского месяца лоос, примерно 20 июля 356 года до н. э.[66] Современники верили, что три богини судьбы мойры посещали младенца вскоре после рождения, чтобы определить его земную судьбу к добру или к худу. Этнологи и антиквары, побывавшие в Македонии в начале ХХ века, описывали ритуалы, которые явно могли перекликаться с обычаями и ритуалами древности[67]. В полночь на третий день после рождения ребенка богини спустились с Олимпа, чтобы определить его будущее. К их визиту приготовились: привязали собак, мебель отодвинули к стенам, подношения мойрам разложили на столе в детской, оставив гореть единственный светильник, чтобы гостьи могли без труда найти колыбель. По прибытии богини суетились вокруг младенца, спорили друг с другом о том, как лучше выполнить свою ночную работу. Клото – Пряха – достала шерсть и начала прясть нить жизни. Лахесис – Дающая жребий – устанавливала судьбу, внося предписанные данные в реестр. Атропос – Неотвратимая – самая древняя и грозная из трех, держала в руке ножницы: именно она решала, где обрезать нить жизни. Нить, сотканная для Александра, получилась крепкой, сулила удачу и славу, но по решению Атропос осталась короткой.
Дни после родов были опасным временем как для матери, так и для ребенка. Многие не переживали первую неделю, погибая от болезни или инфекции. Античное кладбище Пеллы, обнаруженное под эллинистической агорой и прилегающими территориями, дало ученым бесценную информацию о реалиях того времени. Женские захоронения встречаются там в два раза чаще, чем мужские, а дети составляют 35–40 % общего числа погребенных, и большинство из них не дожили до года. Младенческая смертность по современным меркам шокирующе высокая[68]. Многие дети постарше похоронены со множеством разных предметов, особенно терракотовых изделий: среди них миниатюрные петушки, предметы домашней обстановки, бутылочки для кормления молоком и фигурки кормилиц с младенцами на руках. В этих предметах, положенных рядом с мертвыми, отражается вся боль родителей от расставания с детьми, нити жизни которых оказались столь короткими. Философ V века до н. э. Демокрит из Абдеры, вероятно, лучше всех выразил эти чувства: «В воспитании детей полно ловушек. Успех требует борьбы и заботы, неудача означает горе, превосходящее любую иную печаль»[69]. Александр был одним из тех, кому повезло выжить.
Ритуалы и церемонии помогали обозначить смену лиминального статуса ребенка и превращение его в члена семьи. Свидетельств о подобных обычаях в Македонии нет, но можно предположить, что они не отличались от тех, которые практиковались в других частях греческого мира. Первые обряды исполнялись сразу после появления младенца на свет: новорожденного клали на землю и осматривали, чтобы выявить возможные дефекты и признаки слабости. Если все было хорошо, его быстро поднимали, признав достойным воспитания; но если он не плакал, или у него были какие-либо отклонения, или семья не могла позволить себе кормить еще один рот, от новорожденного могли отказаться. В таком случае младенца выносили из дома и передавали в руки богов, что не всегда означало смерть. Усыновление было обычным явлением, и эта практика снабдила многих поэтов и драматургов популярным сюжетным приемом[70]. Официальная церемония принятия следовала на пятый или седьмой день, ее называли амфидромия. Младенца проносили вокруг семейного очага и устраивали в его честь пир. Ритуал имянаречения обычно происходил в то же время или на десятый день, если семья могла позволить себе долгие празднества[71]. Александр – обычное имя как в Эпире, так и в Македонии, оно означает «защитник людей». Имя это прежде носили два македонских царя: Александр I, один из самых прославленных правителей Македонии, и старший брат Филиппа – Александр II, так что оно несло с собой большие ожидания[72].
- Как читать книги. Руководство по чтению великих произведений
- Реальный репортер. Чему не учат на журфаке
- Выбор. О свободе и внутренней силе человека
- Мода и гении
- В поисках гробниц Древнего Египта
- Кельтские мифы
- Гардероб в стиле Zero Waste
- Роман с Грецией
- Греческие и римские мифы. От Трои и Гомера до Пандоры и «Аватара»
- Волна. О немыслимой потере и исцеляющей силе памяти
- В погоне за жизнью. История врача, опередившего смерть и спасшего себя и других от неизлечимой болезни
- Мастер шейков и «Маргариты». Коктейли для запойных читателей
- Сердце из стекла. Откровения солистки Blondie
- Следующая пандемия. Инсайдерский рассказ о борьбе с самой страшной угрозой человечеству
- Древняя магия. От драконов и оборотней до зелий и защиты от темных сил
- Знай мое имя. Правдивая история
- Пять жизней. Нерассказанные истории женщин, убитых Джеком-потрошителем
- Добровольный узник. История человека, отправившегося в Аушвиц
- Египетские мифы. От пирамид и фараонов до Анубиса и «Книги мертвых»
- Культовые художники и их стиль. Как гении искусства и моды вдохновляли друг друга
- Дар. 12 ключей к внутреннему освобождению и обретению себя
- Из кожи вон. Правдивая история о том, что делает нас людьми
- Красивый мальчик
- Земля кочевников
- Обретение внутренней матери. Как проработать материнскую травму и обрести личную силу
- Кроме шуток. Как полюбить себя, продать дуршлаг дорого, прокачать мозг с помощью телешоу и другие истории от Эллен Дедженерес
- Вокруг света за 80 деревьев
- Властелины кино. Инсайдерский рассказ о том, как снимаются великие фильмы
- Индийские мифы. От Кришны и Шивы до Вед и Махабхараты
- Счастливый хвостик. Наука о том, как сделать вашу собаку счастливой
- В мире с животными. Новое понимание животных: как мы можем изменить нашу повседневную жизнь, чтобы помочь им
- Быть Мужчиной. Современная мужественность без насилия, доминирования и страха
- Интимное средневековье. Истории о страсти и целомудрии, поясах верности и приворотных снадобьях
- Съест ли меня моя кошка? И другие животрепещущие вопросы о смерти
- Атлас Нового года и Рождества. Самые веселые, вкусные и причудливые праздничные традиции со всего мира
- D. V.
- Старшая сестра, Младшая сестра, Красная сестра. Три женщины в сердце Китая ХХ века
- Сказки подлунного мира. Легенды и предания, которые помогут лучше понять мир и себя
- Искусство маленьких шагов. Заботливое руководство по обретению радости для тех, кто устал
- Главное в истории литературы. Ключевые произведения, темы, приемы, жанры
- Духовный интеллект. Как SQ помогает обойти внутренние блоки на пути к подлинному счастью
- Идеальное преступление. 92 загадочных дела для гениального злодея и супердетектива
- То самое Таро. Полное руководство по значениям, раскладам и интуитивному чтению карт
- Таро: 78 ступеней мудрости на пути к самопознанию
- Убийство в кукольном доме. Как расследование необъяснимых смертей стало наукой криминалистикой
- Психология убеждения. 60 доказанных способов быть убедительным
- Главное в истории науки. Ключевые открытия, эксперименты, теории, методы
- Эмоции: великолепная история человечества
- Правила счастья кота Гомера. Трогательные приключения слепого кота и его хозяйки
- Египетская «Книга мертвых»
- Страшный, таинственный, разный Новый год. От Чукотки до Карелии
- Кельты. Мифология, сформировавшая наше сознание
- Главное в истории Вселенной. Открытия, теории и хронология от Большого взрыва до смерти Солнца
- Книга драконов. Гигантские змеи, стражи сокровищ и огнедышащие ящеры в легендах со всего света
- Великолепный век османского искусства. Дворцы, мечети, гаремы и ночной Босфор
- Яды. Великолепная история человечества
- Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки
- О дивный тленный мир. Когда смерть – дело жизни
- Греческая мифология, сформировавшая наше сознание
- Старшая Эдда
- Главное в истории медицины
- Вайолет, склонившаяся над травою
- Подсознание. Великолепная история человечества
- Вокруг света за 80 растений
- «Плохие девочки»: Дракула в юбке, ведьма из Блэр, монахиня из Монцы и книжные злодейки
- Государь
- Слово о полку Игореве
- Главное в истории мифологии. Ключевые сюжеты, темы, образы, символы
- Молодой Александр
- Волшебная книга Нового года и Рождества. Традиции, сказки и рецепты со всего света
- Русский героический эпос
- Друг отвел меня к психиатру. Как я был сыном богов, капитаном космической миссии и вел хронику своего безумия
- Русские народные сказки с женскими архетипами. Баба-яга, Марья Моревна, Василиса Премудрая и другие героини
- Большая книга корейских монстров. От девятихвостой лисицы Кумихо до феникса Понхван
- 4 сезона волшебства. Тайные послания и рецепты, нашептанные лесом
- Продавец туманов. Истории в стихах для городских мечтателей
- Психология Таро. Самопознание через архетипы и бессознательное
- Страшные сказки братьев Гримм: настоящие и неадаптированные
- Главное в истории искусства Кореи. Ключевые произведения, темы, имена, техники
- Японские легенды. Оборотень Кицунэ, ведьма Такияша, слово самурая, заклинания, месть и любовь
- Боги и демоны Древней Индии. Мифы из края Брахмы, Вишну и Шивы
- Коты-ёкаи, лисы-кицунэ и демоны в человеческом обличье. Иллюстрированный бестиарий японского фольклора
- Нечистая, неведомая и крестная сила
- Возвращение героя. Архетипические сюжеты, древние ритуалы и новые символы в популярной культуре
- Главное в истории исламского искусства. Ключевые произведения, эпохи, династии, техники
- Мы купили книжный магазин. Как исполнить мечту книголюба и (почти) не сойти с ума от счастья и читателей
- Волшебные и страшные мифы леса. От феникса до Иггдрасиля
- Интимная история человечества
- Выбор. О свободе и внутренней силе человека
- Дар. 12 ключей к внутреннему освобождению и обретению себя
- Молодой Александр