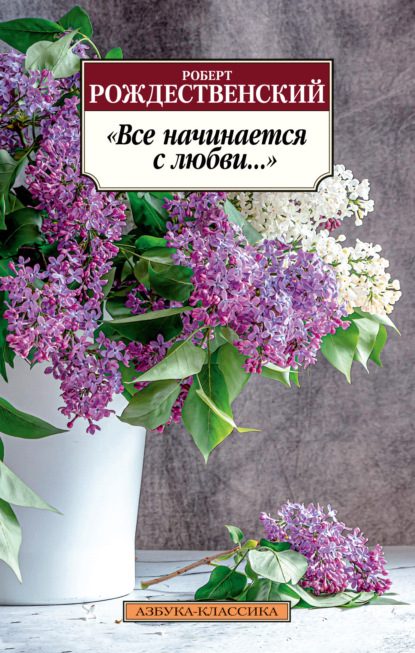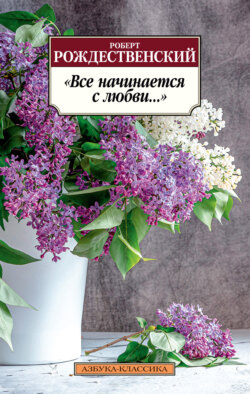
000
ОтложитьЧитал
Шрифт:
-100%+
Ливень
Аленке
– Погоди!.. —
А потом тишина и опять:
– Погоди…
К потемневшей земле
неподатливый сумрак прижат.
Бьют по вздувшимся почкам
прямые, как правда,
дожди.
И промокшие птицы
на скрюченных ветках дрожат…
Ливень мечется?
Пусть.
Небо рушится в ярости?
Пусть!
Гром за черной горою
протяжно и грозно храпит…
Погоди!
Все обиды забудь.
Все обиды забудь…
Погоди!
Все обиды забыл я.
До новых
обид…
Хочешь,
высушу птиц?
Жарким ветром в лесах просвищу?
Хочешь,
синий цветок принесу из-за дальних морей?
Хочешь,
завтра тебе
озорную зарю посвящу.
Напишу на заре:
«Это ей
посвящается.
Ей…»
Сквозь кусты продираясь,
колышется ливень в ночи.
Хочешь,
тотчас исчезнет
свинцовая эта беда?..
Погоди!
Почему ты молчишь?
Почему ты молчишь?
Ты не веришь мне?
Верь!
Все равно ты поверишь,
когда
отгрохочут дожди.
Мир застынет,
собой изумлен.
Ты проснешься.
Ты тихо в оконное глянешь стекло
и увидишь сама:
над землей,
над огромной землей
сердце мое,
сердце мое
взошло.
Жизнь
Г. П. Гроденскому
Живу, как хочу, —
светло и легко.
Живу, как лечу, —
высоко-высоко.
Пусть небу
смешно,
но отныне
ни дня
не будет оно
краснеть за меня…
Что может быть лучше —
собрать облака
и выкрутить тучу
над жаром
песка!
Свежо и громадно
поспорить с зарей!
Ворочать громами
над черной землей.
Раскидистым молниям
душу
открыть,
над миром,
над морем
раздольно
парить!
Я зла не имею.
Я сердцу не лгу.
Живу, как умею.
Живу, как могу.
Живу, как лечу.
Умру,
как споткнусь…
Земле прокричу:
«Я ливнем
вернусь!»
Творчество
Э. Неизвестному
Как оживает камень?
Он сначала
не хочет верить
в правоту резца…
Но постепенно
из сплошного чада плывет лицо.
Верней —
подобие лица.
Оно ничье.
Оно еще безгласно.
Оно еще почти не наяву.
Оно еще
безропотно согласно
принадлежать любому существу.
Ребенку,
женщине,
герою,
старцу…
Так оживает камень.
Он —
в пути.
Лишь одного не хочет он:
остаться
таким, как был.
И дальше не идти…
Но вот уже
с мгновением великим
решимость Человека сплетена.
Но вот уже
грудным, просящим криком
вся мастерская
до краев полна:
«Скорей!
Скорей, художник!
Что ж ты медлишь?
Ты не имеешь права
не спешить!
Ты дашь мне жизнь!
Ты должен.
Ты сумеешь.
Я жить хочу!
Я начинаю
жить.
Поверь в меня светло и одержимо.
Узнай!
Как почку майскую, раскрой.
Узнай меня!
Чтоб по гранитным жилам
пошла
толчками
каменная кровь.
Поверь в меня!..
Высокая,
живая,
по скошенной щеке
течет слеза…
Смотри!
Скорей смотри!
Я открываю
печальные
гранитные глаза.
Смотри:
я жду взаправдашнего ветра.
В меня уже вошла
твоя весна!..»
А человек,
который создал
это,
стоит и курит около окна.
Реквием
(Из поэмы)
Вечная
Слава
Героям!
Вечная слава!
Вечная слава!
Вечная
слава
героям!
Слава героям!
Слава!!
…Но зачем она им,
эта слава, —
мертвым?
Для чего она им,
эта слава, —
павшим?
Все живое —
спасшим.
Себя —
не спасшим.
Для чего она им,
эта слава, —
мертвым?..
Если молнии в тучах заплещутся жарко
и огромное небо
от грома оглохнет,
если крикнут
все люди земного шара —
ни один из погибших
даже не вздрогнет.
Знаю:
солнце
в пустые глазницы не брызнет!
Знаю:
песня
тяжелых могил не откроет!
Но от имени
сердца,
от имени
жизни
повторяю:
Вечная
Слава
Героям!..
И бессмертные гимны,
прощальные гимны
над бессонной планетой
плывут величаво…
Пусть
не все герои —
те,
кто погибли, —
павшим
Вечная слава!
Вечная слава!..
Вспомним всех поименно,
горем
вспомним
своим…
Это нужно —
не мертвым!
Это надо —
живым!
Вспомним
гордо и прямо
погибших в борьбе…
Есть
великое право:
забывать о себе!
Есть
высокое право:
пожелать и посметь!..
Стала
вечною славой
мгновенная
смерть!
…Помните!
Через века,
через года —
помните!
О тех,
кто уже не придет
никогда, —
помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти
павших
будьте достойны!
Вечно
достойны!
Хлебом и песней,
мечтой и стихами,
жизнью просторной,
каждой
секундой,
каждым
дыханьем
будьте достойны!
Люди!
Покуда сердца
стучатся —
помните!
Какою ценой
завоевано счастье —
пожалуйста,
помните!
Песню свою
отправляя в полет —
помните!
О тех,
кто уже никогда не споет, —
помните!
Детям своим
расскажите о них,
чтоб запомнили!
Детям
детей
расскажите о них,
чтобы тоже
запомнили!
Во все времена
бессмертной Земли
помните!
К мерцающим звездам
ведя корабли —
о погибших
помните!
Встречайте трепетную весну,
люди Земли.
Убейте
войну,
прокляните
войну,
люди Земли!
Мечту пронесите через года
и жизнью наполните!..
Но о тех,
кто уже не придет
никогда, —
заклинаю —
помните!
«Нахожусь ли в дальних краях…»
Нахожусь ли в дальних краях,
ненавижу или люблю, —
от большого,
от главного
я —
четвертуйте —
не отступлю.
Расстреляйте —
не изменю
флагу
цвета крови моей.
Эту веру я свято храню
девять тысяч
нелегких дней.
С первым вздохом,
с первым глотком
материнского молока
эта вера со мной.
И пока
я с дорожным ветром
знаком,
и пока не сгибаясь
хожу
по не ставшей пухом земле,
и пока я помню о зле,
и пока с друзьями дружу,
и пока не сгорел в огне,
эта вера
будет жива.
Чтоб ее уничтожить во мне,
надо сердце убить
сперва.
Сын Веры
Ю. Могилевскому
Я —
сын Веры…
Я давно не писал тебе писем,
Вера Павловна.
Унесли меня ветры,
напевали мне ветры
то нахально,
то грозно,
то жалобно.
Я – сын Веры.
О, как помогла ты мне, мама!
Мама Вера…
Ты меня на вокзалах пустых обнимала,
мама Вера.
Я —
сын Веры.
Непутевого сына
ждала обратно
мама Вера…
И просила в письмах
писать только правду
мама Вера…
Я —
сын Веры!
Веры не в Бога,
не в ангелов, не в загробные штуки!
Я —
сын веры в солнце,
которое хлещет
сквозь рваные тучи!
Я —
сын веры в труд человека.
В цветы на земле обгорелой.
Я —
сын веры!
Веры в молчанье
под пыткой!
И в песню
перед расстрелом!
Я —
сын веры в земную любовь,
ослепительную, как чудо.
Я —
сын веры в Завтра —
такое,
какое хочу я!
И в людей,
как дорога, широких!
Откровенных.
Сто́ящих…
Я —
сын веры,
презираю хлюпиков!
Ненавижу плаксивых и стонущих!..
Я пишу тебе правду,
мама Вера.
Пишу только правду…
Дел – по горло!
Прости,
я не скоро
вернусь обратно.
Таежные цветы
Не привез я таежных цветов —
извини.
Ты не верь, если скажут, что плохи
они.
Если кто-то соврет,
что об этом читал…
Просто
эти цветы
луговым не чета!
В буреломах
на кручах
пылают жарки,
как закат,
как облитые кровью желтки.
Им не стать украшеньем
городского
стола.
Не для них
отшлифованный блеск
хрусталя.
Не для них!
И они не поймут никогда,
что вода из-под крана —
это тоже вода…
Ты попробуй сорви их!
Попробуй сорви!
Ты их держишь,
и кажется,
руки в крови!..
Но не бойся,
цветы к пиджаку приколи.
Только что это?
Видишь?
Лишившись земли,
той,
таежной,
неласковой,
гордой земли,
на которой они на рассвете взошли,
на которой роса
и медвежьи следы,
начинают стремительно вянуть
цветы!
Сразу гаснут они.
Тотчас гибнут они…
Не привез я
таежных цветов.
Извини.
«Нахохлятся тяжелые колосья…»
Нахохлятся тяжелые колосья
по всей земле,
размякшей и огромной.
Потом настанет осень.
Хлынет осень,
сиреневым морозом
травы тронув.
И длинный дождь,
с три короба наплакав,
лесную чащу с головой накроет,
разлапистые листья покоробит…
Опавшие,
в оранжевых накрапах,
они цветным пластом на землю лягут
и будут глухо чавкать под ногами.
И вспоминать
о светлом птичьем гаме,
о месяце грибов и спелых ягод…
И медленное солнце будет таять.
И незаметно
удлинится время.
И в сотый раз
я не смогу представить,
как выглядят
июньские деревья.
«Отволнуюсь…»
Отволнуюсь.
Отлюблю.
Отдышу.
И когда последний час
грянет, звеня, —
несговорчивую смерть попрошу
дать пожить мне.
Хотя б два дня.
И потом
с нелегким холодом в боку —
через десять тысяч
дорог —
на локтях,
изодранных в кровь,
я сюда
себя
приволоку!..
Будет смерть за мною тихо ковылять.
Будет шамкать:
«Обмануть норовишь?!»
Будет, охая, она повторять:
«Не надейся…
Меня
не удивишь…»
Но тогда я ей скажу:
«Сама смотри!»
И на Ниду,
как сегодня,
как всегда,
хлынут
бешеные краски зари!
Станет синею-пресиней
вода.
Дюны вздрогнут,
круто выгнув хребты,
будто львицы,
готовые к прыжку.
И на каждую из них с высоты
упадет
по голубому цветку.
Пробежит по дюнам ветер,
и они
замурлычут,
перейдя на басы,
А потом уснут,
в закат уронив
желтоватые
мокрые носы.
Задевая за тонкие лучи,
будут птицы над дюнами звенеть.
И тогда —
хотите верьте или нет —
закричу не я,
а смерть закричит!
Мелко-мелко задрожит коса в руке.
Смерть усядется,
суставами скрипя.
И заплачет…
Ей,
старухе,
карге,
жизнь понравится
больше
себя!
Так и надо
Не поможет здесь
ни песня и ни ласка.
В доме все воспринимают без обид:
лишь тогда,
когда качается коляска,
мальчик спит…
Слышно:
за стеной соседи кашляют.
Слышно:
ветер снег сдувает с крыш.
Я не знаю,
что врачи на это скажут,
но, по-моему, отлично,
что малыш,
только именем одним еще отмеченный,
примеряющийся к жизни еле-еле,
ничего пока не видевший,
трехмесячный, —
и уже стоянки
не приемлет.
Так и надо —
он увидит страны разные!
Так и надо —
задохнется на бегу!..
Я с коляски тоже
начал странствия —
до сих пор остановиться
не могу.
«Я родился…»
Я родился —
нескладным и длинным —
в одну из влажных ночей.
Грибные июньские ливни
звенели,
как связки ключей.
Приоткрыли огромный мир они,
зайчиками прошлись по стене.
«Ребенок
удивительно смирный…» —
врач сказал обо мне.
…А соседка достала карты,
и они сообщили,
что
буду я не слишком богатым,
но очень спокойным зато.
Не пойду ни в какие бури,
неудачи
смогу обойти
и что дальних дорог
не будет
на моем пути.
Что судьбою,
мне Богом данной
(на ладони вся жизнь моя!),
познакомлюсь
с бубновой дамой,
такой же смирной,
как я…
Было дождливо и рано.
Жить сто лет
кукушка звала.
Но глупые карты
врали!
А за ними соседка
врала!
Наврала она про дорогу.
Наврала она про покой…
Карты врали!..
И слава богу,
слава людям,
что я не такой!
Что по жилам бунтует сила,
недовольство собой храня.
Слава жизни!
Большое спасибо
ей
за то, что мяла меня!
Наделила мечтой богатой,
опалила ветром сквозным,
не поверила
бабьим картам,
а поверила
ливням грибным.
Концерт
Сорок трудный год.
Омский госпиталь…
Коридоры сухие и маркие.
Шепчет старая нянечка:
«Господи!..
До чего же артисты
маленькие…»
Мы шагаем палатами длинными.
Мы почти растворяемся в них
с балалайками,
с мандолинами
и большими пачками книг…
Что в программе?
В программе – чтение,
пара песен
военных, правильных…
Мы в палату тяжелораненых
входим с трепетом и почтением…
Двое здесь.
Майор артиллерии
с ампутированной ногой,
в сумасшедшем бою
под Ельней
на себя принявший огонь.
На пришельцев глядит он весело…
И другой —
до бровей забинтован, —
капитан, таранивший «мессера»
три недели назад
над Ростовом…
Мы вошли.
Мы стоим в молчании…
Вдруг
срывающимся фальцетом
Абрикосов Гришка отчаянно
объявляет начало концерта.
А за ним,
не вполне совершенно,
но вовсю запевале внимая,
о народной поем,
о священной
так,
как мы ее понимаем…
В ней Чапаев сражается заново,
краснозвездные мчатся танки.
В ней шагают наши
в атаки,
а фашисты падают замертво.
В ней чужое железо плавится,
в ней и смерть отступать должна.
Если честно признаться,
нравится
нам
такая война…
Мы поем…
Только голос летчика
раздается.
А в нем – укор:
«Погодите…
Постойте, хлопчики…
Погодите…
Умер
майор…»
Балалайка всплеснула горестно.
Торопливо,
будто в бреду…
…Вот и все
о концерте в госпитале
в том году.
«Почем фунт лиха?..»
– Почем фунт лиха?
– Не торгую
лихом.
Дверь в детство открывается со скрипом.
В который раз
мне память подсказала
пустынную дорогу до базара.
А на базаре
шла торговля
лихом!
Оно в те годы
называлось жмыхом.
Сырыми отрубями называлось
и очередью длинной
извивалось.
Оно просило сумрачно и сонно:
– Куплю буханку
за четыре сотни…
– Меняю сапоги
на поллитровку…
Оно
шагами меряло дорогу.
В дома входило,
улиц не покинув,
то строчкою:
«Оставлен город Киев…»
То слишком ясной,
слишком неподробной
казенною
бумагой похоронной.
И песни вдовьи
начинались тихо:
«Ой, горюшко!..
Ой, лишенько!..
Ой, лихо!..»
Глазами мудрецов
смотрели дети.
Продать все это?
За какие деньги?
Кто их чеканит?
Из чего чеканит?
Кто радости от горя
отсекает?..
Да, люди забывают о потерях.
Обманы терпят.
И обиды терпят.
Да, пламя гаснет.
Стоны затихают.
И даже вдовьи слезы
высыхают.
И снова людям
новый век отпущен.
Но память
возвращается к живущим.
Приходит память,
чтобы многократно
перехлестнуть календари
обратно.
Она в ночи плывет над головами
и говорит неслышными словами
о времени
суровом и великом.
Я помню все.
Я не торгую
лихом.
«Я жизнь люблю безбожно…»
Я жизнь люблю безбожно!
Хоть знаю наперед,
что —
рано или поздно —
настанет мой черед.
Я упаду на камни
и, уходя во тьму,
усталыми руками
землю обниму…
Хочу,
чтоб не поверили,
узнав,
друзья мои.
Хочу,
чтоб на мгновение
охрипли соловьи!
Чтобы,
впадая в ярость,
весна по свету шла…
Хочу, чтоб ты
смеялась!
И счастлива была.
Солнце
Это навсегда запомни ты
и людям расскажи…
Солнце
начинает в комнате
строить этажи.
Солнце продолжает древнюю
тихую игру —
тянет сквозь окно
из времени
тонкую иглу.
Вот плывет игла,
раздваивается,
шире становясь.
Ветром
с потолка сдувается
солнечная вязь.
Вот и солнечные зайцы —
эй,
посторонись! —
в зеркало,
как в пруд,
бросаются
головами вниз.
И, тугим стеклом отброшенные,
вмиг осатанев,
скачут
легкими горошинами
по крутой стене.
Вся стена —
в неровных линиях,
в крапинках стена…
Солнце
яростными ливнями
хлещет из окна!
Не лучи уже,
а ворохи
нитей
пламенных и сочных…
Съели солнечные волки
зайцев солнечных.
Друг
Мы цапаемся жестко,
Мы яростно молчим.
Порою —
из пижонства,
порою —
без причин.
На клятвы в дружбе крупные
глядим как на чуму.
Завидуем друг другу мы,
не знаю почему…
Взираем незнакомо
с придуманных высот,
считая,
что другому
отчаянно везет.
Ошибок не прощаем,
себя во всем виним.
Звонить не обещаем.
И все ж таки звоним!
Бывает:
в полдень хрупкий
мне злость моя нужна.
Я поднимаю трубку:
«Ты дома,
старина?..»
Он отвечает:
«Дома…
Спасибо – рад бы…
Но…»
И продолжает томно,
и вяло,
и темно:
«Дела…
Прости…
Жму руку…»
А я молчу, взбешен.
Потом швыряю трубку
и говорю:
«Пижон!!»
Но будоражит в полночь
звонок из темноты…
А я обиду помню.
Я спрашиваю:
«Ты?»
И отвечаю вяло.
Уныло.
Свысока.
И тут же оловянно
бубню ему:
«Пока…»
Так мы живем и можем,
ругаемся зазря.
И лоб в раздумьях морщим,
тоскуя и остря.
Пусть это все мальчишеством
иные назовут.
Листы бумаги
чистыми
четвертый день живут, —
боюсь я слов истертых,
как в булочной ножи…
Я знаю:
он прочтет их
и не простит мне
лжи!
Костер
Умирал костер, как человек…
То устало затихал,
то вдруг
вздрагивал,
вытягивая вверх
кисти желтых и прозрачных рук.
Вздрагивал,
по струйке дыма
лез,
будто унести хотел с собой
этот душный,
неподвижный лес,
от осин желтеющих
рябой,
птиц
неразличимые слова,
пухлого тумана
длинный хвост,
и траву,
и россыпь синих звезд,
тучами прикрытую едва.
Памяти Хемингуэя
Уходят,
уходят могикане.
Дверей не тронув.
Половицами не скрипнув,
Без проклятий уходят.
Без криков.
Леденея.
Навсегда затихая…
Их проклинали
лживо,
хвалили
лживо.
Их возносили.
От них отвыкали…
Могикане
удивлялись и жили.
Усмехались и жили
могикане.
Они говорили странно,
поступали странно.
Нелепо.
Неумно.
Неясно…
И ушли,
не испытав
страха.
Так и не научившись
бояться.
Ушли.
Оставили
ветер весенний.
Деревья,
посаженные своими руками.
Ушли.
Оставили
огромную землю,
которой очень нужны
могикане.
Оттуда
На том
материке
твоя звезда горит.
На том
материке
ты тоже —
материк!..
Постукивает дождь
по синеве окна.
А ты глядишь на дочь.
А ты сидишь одна.
Прохладно, как в лесу
в предутренней тиши…
Тебя я знаю всю.
(Не слушайте,
ханжи!)
Ты,
как знакомый дом,
не требуешь
похвал.
Открыта,
как ладонь.
Понятна,
как букварь…
Но так уж суждено:
и раз,
и два подряд
взглянула ты,
и взгляд —
как белое
пятно!..
Ты
тоже
материк!
Разбуженная глубь…
Я вечный твой
должник.
Я вечный твой
Колумб.
Мне
вновь ночей не спать,
ворчать на холода.
Мне снова
отплывать
неведомо куда.
Надеяться, и ждать,
и волноваться зря.
И, вглядываясь
в даль,
вовсю вопить:
«Земля!!»
Намеренно грубя,
от счастья
разомлеть.
И вновь открыть
тебя!
Открыть —
как умереть.
Блуждать
без сна и компаса
в краях
твоей земли…
И никогда
не кончатся
открытия мои.
История
История!
Пусть я —
наивный мальчик.
Я верил слишком долго,
слишком искренне,
что ты —
точнее всяких математик,
бесспорней
самой тривиальной истины…
Но что поделать —
мальчики стареют.
Твои ветра
по лицам их секут…
Секунды предъявляют счет столетьям!
Я говорю от имени
секунд.
История —
прекрасная, как зарево!
История —
проклятая, как нищенство!
Людей преображающая заново
и отступающая
перед низостью.
История —
прямая и нелепая!
Как часто называлась ты —
припомни —
плохой,
когда была
великолепною!
Хорошей —
хоть была
постыдно подлой!
Как ты зависела
от вкусов мелочных.
От суеты.
От тупости души.
Как ты боялась властелинов,
мерящих
тебя на свой
придуманный аршин!
Тобой клянясь,
народы одурманивали.
Тобою прикрываясь,
земли
грабили!
Тебя подпудривали.
И подрумянивали.
И перекрашивали!
И перекраивали!
Ты наполнялась криками истошными
и в великаны
возводила хилых…
История,
гулящая история!
Послушай,
ты ж не просто
пыль архивов.
История!..
Сожми сухие пальцы.
Живое сердце людям отвори.
Смотри,
как по-хозяйски просыпаются
бессмертные создатели твои!
Они проглатывают
немудреный завтрак.
Торопятся.
Целуют жен своих.
Они уходят!
И зеленый запах
взволнованно окутывает их.
Им солнце бьет в глаза.
Гудки аукают.
Плывет из труб
невозмутимый дым.
Ты станешь
самой точною наукою.
Ты станешь.
Ты должна.
Мы
так хотим!
«Кем они были в жизни…»
С. Красаускасу
Кем они были в жизни —
величественные Венеры?
Надменные Афродиты —
кем в жизни были они?..
Раскачиваясь,
размахиваясь,
колокола звенели.
Над городскими воротами
бессонно горели огни.
Натурщицы приходили
в нетопленые каморки.
Натурщицы приходили —
застенчивы и чисты.
И превращалась одежда
в холодный
ничей комочек.
И в комнате
становилось теплее
от наготы…
Колокола звенели:
«Все в этом мире тленно!..»
Требовали:
«Не кощунствуй!..
Одумайся!..
Отрекись!..»
Но целую армию красок
художник
гнал в наступленье.
И по холсту,
как по бубну,
грозно стучала кисть.
Удар!
И рыхлый монашек
оглядывается в смятенье.
Удар!
И врывается паника
в святейшее торжество.
Стекла звенят в соборе…
Удар!
И это смертельно
для господина Бога
и родственников его…
Колокола звенели.
Сухо мороз пощелкивал.
На башне,
вздыбленной в небо,
стражник седой дрожал…
И хохотал художник!
И раздавал пощечины
ханжам,
живущим напротив,
и всем грядущим
ханжам!
Среди откровенного холода
краски цвели на грунте.
Дул торжественный ветер
в окна,
как в паруса.
На темном холсте,
как на дереве,
зрели
теплые груди.
Мягко светились бедра.
Посмеивались глаза.
И раздвигалась комната.
И исчезали подрамники.
Величественная Афродита
в небрежной позе плыла!..
А натурщицам было холодно.
Натурщицы
тихо вздрагивали.
Натурщицы были
живыми.
И очень хотели
тепла.
Они одевались медленно.
Шли к дверям.
И упорно
в тоненькие накидки
не попадали плечом.
И долго молились в церкви.
И очень боялись
Бога…
А были
уже бессмертными.
И Бог здесь был
ни при чем.
Бесплатный фрагмент закончился. Хотите читать дальше?
Издательство:
Азбука-АттикусСерии:
Азбука-классикаКниги этой серии:
- Московская сага. Книга 1. Поколение зимы
- Московская сага. Книга 2. Война и тюрьма
- Московская сага. Книга 3. Тюрьма и мир
- Звезды смотрят вниз
- В глуби веков
- Сожженная карта
- Женщина в песках
- Ночь нежна
- Великий Гэтсби
- Чужое лицо
- Хазарский словарь. Роман-лексикон в 100 000 слов. Мужская версия
- Поднятая целина
- Карьера Ругонов
- Моя кузина Рейчел
- Человек-ящик
- Мария Стюарт
- Тайное свидание
- Совсем как человек
- Козел отпущения
- Шерли
- Три певца своей жизни. Казанова, Стендаль, Толстой
- Мерзкая плоть
- Элегантность ёжика
- Бог как иллюзия
- Черный квадрат (сборник)
- Мария Антуанетта
- Жажда любви
- Моряк, которого разлюбило море
- Сын Зевса
- Письма незнакомке
- Остров Проклятых
- Чтец
- Портрет художника в юности
- Нетерпение сердца
- Циники. Бритый человек (сборник)
- Трактир «Ямайка»
- Последняя любовь в Константинополе
- Ищу человека (сборник)
- Умеющая слушать
- Маленькие мужчины
- Юные жены
- Взрослая жизнь
- Падение ангела
- Храм на рассвете
- Пригоршня праха
- Сказки, рассказанные на ночь
- Пророк
- Маракотова бездна
- Женщина в белом
- Когда опускается ночь
- Таящийся у порога
- Иные боги
- Война миров
- Блеск и нищета куртизанок
- Воспитание чувств
- Утраченные иллюзии
- Агнес Грей
- Похождения бравого солдата Швейка
- Под покровом ночи
- Север и Юг
- Незнакомка из Уайлдфелл-Холла
- Офицеры и джентльмены
- Возвращение в Брайдсхед
- Знак четырех. Собака Баскервилей
- Шерлок Холмс. Его прощальный поклон
- Самая лёгкая лодка в мире
- Шум прибоя
- Суер-Выер
- Портрет Дориана Грея
- Рассказы о необычайном
- Последний магнат
- Гость Дракулы и другие странные истории
- Камо грядеши
- Книги стихов
- В тусклом стекле
- Дом у кладбища
- За гранью времен
- Загадочный дом на туманном утесе
- Кладовая солнца
- Мгла над Инсмутом
- Лабиринт
- Последний из могикан
- Тарантул. Трилогия
- Похищенный. Катриона
- Вальпургиева ночь
- Призрак Оперы
- Виннету. Сын вождя
- В окопах Сталинграда
- Дочь короля Эльфландии
- Старомодная девушка
- История кавалера де Грие и Манон Леско
- Белый Клык
- Записки о Шерлоке Холмсе
- А зори здесь тихие… Завтра была война. Аты-баты, шли солдаты
- До свидания, мальчики!
- Живи и помни
- Все начинается с любви…
- Галерея женщин
- Чучело
- The Raven / Ворон
- Остров Крым
- Доводы рассудка
- Маленькие дикари
- Клены в осенних горах. Японская поэзия Серебряного века
- Орландо. Волны. Флаш
- Сожженная карта. Тайное свидание. Вошедшие в ковчег
- Время и боги
- Преступная добродетель
- Лисьи чары
- Житейские воззрения кота Мурра
- Повесть о жизни. Книги I–III
- Старшая Эдда
- Повесть о жизни. Книги IV–VI
- Доживем до понедельника
- Мистические истории. Абсолютное зло
- Холодный дом
- Рассказы о привидениях
- Эпос о Гильгамеше
- Поезд из Венеции
- Птицы и другие истории
- Мистические истории. Фантом озера
- Мельница на Флоссе
- Исповедь
- Красное и белое, или Люсьен Левен
- Джек и Джилл
- Рука и сердце
- Соперницы
- Вошедшие в ковчег
- Удольфские тайны
- Приключения трех джентльменов. Новые сказки «Тысячи и одной ночи»
- Клич перелетных гусей. Японская классическая поэзия XVII – начала XIX века в переводах Александра Долина
- Мистические истории. Призрак и костоправ
- Мистические истории. Ребенок, которого увели фейри
- Мистические истории. День Всех Душ
- Золотая лихорадка
- Дочь Ивана, мать Ивана
- Наши за границей. Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых в Париж и обратно
- Тайна Желтой комнаты. Духи Дамы в черном
- Дети подземелья
- Горе от ума
- Большие надежды
- Холм грез. Тайная слава
- Главная улица
- Вендиго
- Зов Ктулху
- Роза и ее братья
- Мистерии
- Гептамерон
- Галантные дамы
- Борьба с безумием. Гёльдерлин. Клейст. Ницше
- Силуэт женщины
- Победитель получает все
- Роза в цвету
- Песнь Бернадетте
- Повесть о несбывшейся любви
- Плоды земли
- Окаянные дни
- Изгнанник. Литературные воспоминания
- Мортон-Холл. Кузина Филлис
- Вампиры. Из семейной хроники графов Дракула-Карди
- Люди Бездны
- Монах
- Чаша жизни
- В сиреневом саду
- Самсон назорей. Пятеро
- Записки Барри Линдона, эсквайра, писанные им самим