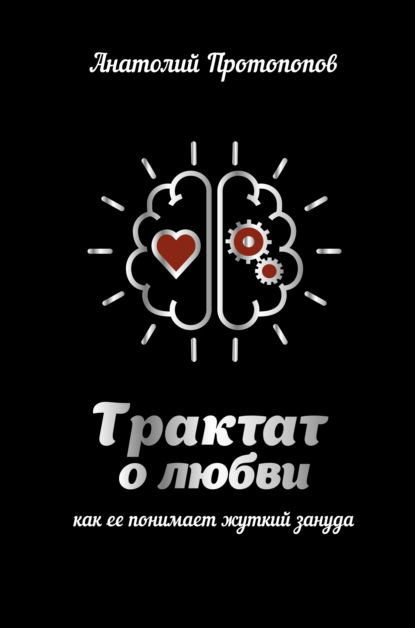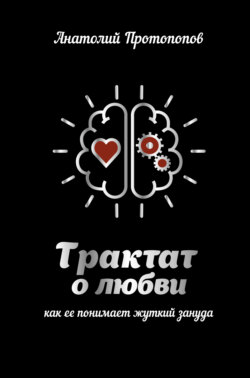
000
ОтложитьЧитал
О нашем первобытном «я», рели в общих чертах про человеческие инстинкте!
Во мне два «Я», два полюса планеты,
Два разных человека, два врага.
Когда один стремится на балеты,
Другой стремится прямо на бега…
В. Высоцкий
Человек, как известно, относится к отряду приматов, виду Homo sapiens. И хотя на бытовом уровне этот факт, бывает, оспаривается (о чем мы говорили во введении), все же это факт – с обезьянами мы родственники. Означенное родство с другими приматами определяется большим или меньшим сходством генетического материала, внешне выражающимся в сходстве строения тела. Например, гены человека и шимпанзе совпадают более чем на 99 %; интересно, что геном мыши сходен с человеческим на 85 %, и даже у дождевого червя имеется порядка 70 % тех же генов, что и у человека. В этом мало удивительного – ведь это означает, что тела тех и других построены на основе примерно тех же белков (к примеру, все перечисленные организмы вырабатывают белок гемоглобин). Другое дело – как они построены и организованы функционально.
Однако видообразующими признаками являются не только особенности строения органов, но и поведение, повадки (приемы охоты, защиты, брачные ритуалы и многое другое). И раз уж все видообразующие признаки передаются по наследству (на то они и видообразующие!), то присущее виду поведение тоже передается по наследству. К примеру, львы и гепарды демонстрируют существенно разное охотничье поведение, хотя оба относятся к семейству кошачьих и даже живут примерно в одинаковых природных условиях. Причем говорить о «передающейся из поколения в поколение культурной традиции» в этом случае нет оснований. Даже у подвидов одного вида поведение может отличаться. К примеру, доказана передача по наследству способности делать стойку для собак именно охотничьих пород. Еще пример инстинктивно-обусловленного рефлекса, но уже ближе к нам, людям: опускание глаз как признание своего подчинения другой особи характерно для приматов, включая человека. Псовые (например, собаки) в этой же ситуации поджимают хвост. Такой интересный для нашей темы инстинктивный акт, как поцелуй – часть врожденного брачного ритуала приматов, произошедшего от ритуала кормления.
Такое унаследованное поведение принято называть инстинктивным, а отдельные его компоненты – инстинктами. В отношении инстинктивных поведенческих программ используется также термин «врожденная модель поведения». Многие врожденные модели поведения у человека и высших животных нуждаются в доформировании в процессе роста и воспитания, но из этого нельзя делать вывод о том, что «все воспитывается». Если «воспитывать» нечего (т. е. если нет врожденных предпосылок), то и воспитать ничего не удастся. Например, если у человека изначально нет музыкального слуха, то из него невозможно «воспитать» минимально годного музыканта.
Как уже говорилось выше, вопрос о наследовании поведения применительно к человеку неизменно вызывает бурные протесты и жаркое желание спорить у значительной части общества, преимущественно у лиц с гуманитарным складом характера, однако в этой книге мы исходим из того, что унаследованным поведением человека пренебречь нельзя, и наоборот – именно оно дает ключ к пониманию многих парадоксов поведения. Тех же читателей, кому трудно с этим согласиться, я отсылаю к отологическому продолжению, где мы рассмотрим этот вопрос подробнее.
Инстинкты управляют нами через эмоции, не утруждаясь разъяснениями. Инстинкт, побуждающий женщину украшать себя, в частности косметикой, никак не сообщает ей, зачем это нужно делать – ей хочется, и все. Логический смысл в этом однозначен – привлечь внимание мужчин, однако большинство женщин будут это категорически и искренне отрицать, говоря, что красятся они «для себя». Просто хочется, и все… Но ведь гетеросексуальные мужчины «для себя» не красятся! Такой поведенческой программы в их инстинктах нет. Кстати, очень многие современные мужчины негативно относятся к косметике на женщинах, но инстинкт про это не хочет знать. Еще стоит обратить внимание, что чем ниже уровень культуры женщины, тем ярче и грубее «штукатурка» – инстинктивные мотивы в этом случае не сдерживаются и не корректируются рассудком. Однако, имея свободный и прямой доступ к мотивационным центрам мозга, инстинкты способны вызвать ощущение своей правоты в чем угодно. Воистину верно сказано «То, чего хочется, всегда кажется необходимым» (©_Мария Эбнер-Эшенбах). Это воздействие можно даже уподобить наркотическому. Наркотические иллюзии также нередко воспринимаются как какая-то высшая мудрость. Также и пресловутая «мудрость любви» на деле – лишь только ощущение мудрости. На самом деле любовь оценивает объект выбора очень поверхностно – в соответствии с жесткой, где-то даже тупой, генетической программой, задающей стратегию выбора брачного партнера. Рассудку при этом не остается ничего другого, кроме как заниматься подгонкой под ответ. Человеку вообще очень свойственно заниматься подгонками под ответ, когда он пытается объяснить свое инстинктивно-мотивированное поведение.
«Любовь всегда права» часто слышим мы в песнях, стихах или проповедях. Люди же бывалые склонны петь другие песни: «любовь зла – полюбишь и козла». Зачем и почему возникает любовь к человеку, при упоминании которого приходят на ум аналогии со столь малоприятным в качестве объекта половой любви животным? А затем, что такой человек малоприятен лишь в современной обстановке с желательным ныне моногамным браком и продуктивной деятельностью на благо общества в рамках закона; в те же доисторические времена, когда формировались инстинкты выбора наилучшего брачного партнера, как раз такая, ныне неприятная, а то и опасная личность была вариантом хоть куда… Но инстинкты не спрашивают, какова нынче социальная конъюнктура, они просто включаются, когда сочтут нужным, в соответствии с заложенным в них древним шаблоном, оставляя нам недоумевать, как зла и слепа бывает любовь.
Реальная картина поведения людей усложняется и запутывается не только наличием в нас двух «Я», но и тем, что граница между ними не абсолютно четкая, инстинктивная и рассудочная мотивация может причудливо переплетаться. Кроме того, на каждый случай человек располагает несколькими инстинктивными программами поведения, возникшими в разное эволюционное время и, бывает, противоречащими друг другу.
Короче говоря:
• Человек рождается с большим количеством врожденных программ поведения, которые возникли в разное эволюционное время, в силу чего нередко друг другу противоречат.
• Механизмы реализации врожденных программ поведения способны лишь на сигнатурный анализ обстановки, предполагающий формально-поверхностное сопоставление обстановки со схематичными сигнальными признаками, заложенными в эти программы.
• Достаточное совпадение внешних условий с этими сигнальными признаками порождает ту или иную эмоцию, побуждающую человека к реализации соответствующей инстинктивной программы.
• Истинная мотивировка действий при этом не осознается – для рассудочного объяснения инстинктивно-мотивированного поведения привлекаются самые произвольные доводы, носящие характер подгонки под ответ.
О стадной иерархии
Наглость – второе счастье.
Общеизвестная банальность
В театре, как и в жизни, самым требовательным бывает тот, кто не заплатил за место.
Французская поговорка
Справедливости нет! Те, кто возмущен несправедливостью в мире людей, могут успокоить себя тем, что в мире всех прочих животных обстановка гораздо хуже. Ведь что есть справедливость? Это когда каждому воздается по заслугам перед обществом. А как оценить эти самые заслуги каждого? Вот в чем вопрос, достойный Гамлета… Тем не менее некое практическое его решение, пусть крайне спорное, эволюцией найдено.
Если группе мышей давать корм, то скоро можно заметить, что каждый раз лучшие и большие куски достаются одним и тем же особям. Эти же особи занимают лучшие места для отдыха и имеют наибольшее количество спариваний. Другие особи, довольствуются тем, что осталось от первых; третьи – от вторых и так далее… Таким образом, в этой группе будет наблюдаться определенная внутригрупповая иерархия, определяющая доступ ко всяческим ресурсам. Такая иерархичность была изучена основателями этологии впервые на курах, за что и до сих пор называется иногда «порядком клевания»: для подтверждения своего иерархического ранга вышестоящая курица клюет нижестоящую, что, как правило, не вызывает протестов. Нижестоящая же вышестоящую не клюет (если не оспаривает ее ранг). Отсюда понятно, что ранг в этой иерархии определяет не только доступ к ресурсам; но об этом – ниже.
Великолепнейше дал современное описание иерархических отношений В.Р. Дольник в [1]; я лишь не могу согласиться с его утверждением, что у человека иерархию образуют только мужчины.
Известно наличие такой иерархичности у всех живых существ, ведущих сколь-нибудь групповой образ жизни. Даже у амеб и тех уже наблюдаются зачатки иерархичности. Места (ранги) в этой иерархии издавна принято обозначать буквами греческого алфавита: «альфа» – высокопоставленная особь, «омега» – соответственно низкопоставленная. Впрочем, это обозначение не вполне удачно – в больших группах иерархическая структура утрачивает линейность алфавитного списка, более напоминая пирамиду, в которой несколько особей могут иметь практически одинаковый ранг. Высокоранговых особей называют также «иерарх», «доминант», В.Р. Дольник иногда употребляет термин «пахан» – нередко он наиболее уместен.
Очевидно, что ранг чрезвычайно важен для каждой особи – ведь от него сильно зависит качество ее жизни, а бывает, и само выживание. Поэтому члены группы в той или иной форме борются между собой за повышение этого ранга или сохранение достигнутого. Причем, чем выше ранг, тем больше времени и сил вынуждена тратить особь на его поддержание. Бывает даже, что «альфа» меньше вкушает от жизненных благ, чем «бета» – ему некогда, он занят борьбой. Однако он сохраняет возможность, по крайней мере теоретическую, отнять любой кусок у «беты».
То, какой ранг будет занимать особь в группе, зависит от соотношения ранговых потенциалов данной особи и других особей группы, т. е. одна и та же особь в разных группах будет иметь разный ранг. Ранг, таким образом, явление относительное, а ранговый потенциал – абсолютное.
А что такое ранговый потенциал? Понятно, что он тесно связан с физической силой, однако именно связан, а не определяется ею однозначно; практически он зависит от большого количества признаков и особенностей особи – как врожденных, так и приобретенных, которые мы рассмотрим ниже.
Поскольку иерархическое поведение проявляется у самых разных видов, в том числе (и особенно!) у примитивных, практически не способных к обучению, то можно уверенно полагать, что основа рангового потенциала дается особи при рождении. Причем специфическое высоко-, или низкоранговое поведение начинает проявляться с первых дней жизни. Значит, поведение особи в иерархии регулируется врожденными поведенческими механизмами, то есть инстинктами. Условия роста и воспитания (онтогенез) могут вносить свои коррективы, но врожденный базис имеет первостепенное значение.
Виктор Дольник называет ранговый потенциал «силой настырства» (известный психолог Владимир Леви – «силой наглости»; пожалуй, нагляднее). Они доказывают, что решающим компонентом рангового потенциала является уверенность в своем превосходстве – возможно, и весьма часто, особыми действительными достоинствами не подкрепленная и ни на чем не основанная. В самом деле, уверенность одного человека может просто гипнотизировать другого, да и самого себя, будь то уверенность студента перед экзаменом, водителя перед ГАИшником, гуру перед верующим и прочее, и прочее…
Все это неплохо обрисовано в фольклоре. Возьмем, например, сказку о лисе в ледяной избушке, и зайце в лубяной. Ранговый потенциал у лисы был очень высок – ее убоялся и волк, и медведь. Но у петуха он был еще выше, и лиса сразу убежала. Хотя петух, даже с косой, не опаснее медведя.
Обычно доминант с большой решимостью, упорством и удовольствием занимается внутригрупповой борьбой, которая для него нередко становится самоцелью. Омеге эта борьба гораздо менее приятна – он более уступчив. Отсюда, есть и другой параметр, влияющий на ранговый потенциал – это степень уступчивости (или, наоборот, конфликтности). Приемлемая для каждой особи величина конфликтной напряженности напрямую связана с ранговым потенциалом – чем ниже ранговый потенциал особи, тем менее напряженный конфликт вызывает у нее дискомфортные ощущения.
Следует различать ранговый потенциал исходный, фактический и визуальный. Исходный потенциал определяется главным образом наследственностью; например, на него сильно влияют природные уровни гормонов и нейромедиаторов (серотонина, адреналина, норадреналина, допамина, тестостерона, окситоцина и пр.) и в меньшей степени – условиями внутриутробного развития. Фактический, отталкиваясь от исходного потенциала, сильно зависит от условий роста, воспитания и других довольно случайных обстоятельств – везения, если угодно. Эти обстоятельства могут воспрепятствовать реализации врожденного рангового потенциала, а могут способствовать его полному раскрытию и даже усилению.
Поскольку ранговый потенциал определяется различными, в том числе и не связанными друг с другом, параметрами, то реальный иерархический облик особи может быть мозаичным, когда одни признаки указывают на высокий потенциал, другие – на низкий. Эти признаки в общих чертах можно разбить на ранговые амбиции и ранговые возможности. Ранговые амбиции – это желание (жажда, если угодно) занять возможно более высокий ранг в доступных и возможных иерархиях; ранговые возможности – способность это желание реализовать.
Важно отметить такое свойство рангового потенциала, как аддитивность, т. е. возможность суммирования ранговых потенциалов разных особей. Несколько слаженно действующих низкоранговых особей могут превзойти высокоранговую не только в физической силе, но и подавлять ее, так сказать, психически – точно так же, как бы ее подавляла отдельная особь с более высоким потенциалом.
Чтобы не слишком отвлекаться от любви, не будем здесь очень уж углубляться в эту бескрайнюю и очень важную тему и сейчас детально рассматривать составляющие рангового потенциала; однако воздадим ей должное в отологическом продолжении.
Из мозаичности рангового потенциала (как обобщающего понятия) вытекает понятие визуального рангового потенциала как совокупности сигнальных признаков (в специальной литературе такие сигнальные признаки часто называют релизерами), возможно, второстепенных, но выраженных ярко, что вызывает срабатывание инстинктивных моделей у других особей. Ведь инстинктивные механизмы не проводят сложного анализа; блестит – значит золото. Хороший пример визуального ранга – низкоранговый петух с наклеенным гребнем. Такого все другие петухи воспринимают как высокорангового, но стоит отклеить гребень, и он опять скатится вниз. Еще пример: человек, страдающий нарциссизмом (влюбленностью в самого себя), может на кого-то из окружающих производить впечатление высокорангового. Но при этом он может быть напрочь лишен способности бороться за место под солнцем, что есть сущность высокого ранга. Напротив, дружелюбный человек, пусть даже неплохо устроившийся в жизни, может производить впечатление низкорангового.
На разных особей могут производить впечатление разные проявления рангового потенциала, т. е. чувствительность разных особей к разным сигнальным признакам, составляющим шаблон образа особи, может быть разной. Визуальный может совпадать с фактическим, а может и не совпадать. Происходит это потому, что как уже было сказано, нервные структуры, реализующие инстинктивные модели поведения, возникли в глубочайшей древности – они относительно просто устроены и реагируют на обстановку очень поверхностно, шаблонно. Особь может быть низкоранговой по сути, но обладать одним-двумя сигнальными признаками высокого ранга. Тогда эти о дин-два ярких визуальных (сигнальных) признака могут на кого-то подействовать, несмотря на объективно низкий ранговый потенциал. Да, даже своих первобытных целей инстинктивные программы, в силу примитивности механизмов их реализации, достигают усредненно, с большими погрешностями.
Короче говоря:
• Человеку, как и всем групповым животным, присуще образовывать иерархические социальные структуры, поведение в которых регулируется соответствующими инстинктами.
• Способность занять тот или иной ранг в иерархии называется ранговым потенциалом. Ранговый потенциал определяется многими параметрами, начиная от физической силы, но для высокоорганизованных существ главным образом глубинной уверенностью в своем праве быть выше всех (в основном, врожденной; в быту такую уверенность часто называют самооценкой), возможно не подкрепленной действительными достоинствами и ни на чем не основанной.
• Важнейшими факторами рангового потенциала также являются: конфликтность, а именно желание инициировать конфликты; конфликтная устойчивость, а именно способность выдерживать конфликты, навязанные извне; тесно связанная с вышеназванными факторами уступчивость (или неуступчивость), однако она может быть и самостоятельным явлением.
• В силу определенной независимости факторов, влияющих на ранговый потенциал, возможны мозаичные проявления иерархического статуса, когда одни признаки указывают на высокий ранговый потенциал, а другие – на низкий, и можно говорить о ранговом потенциале как обобщающем понятии.
• При рождении особь уже обладает определенным ранговым потенциалом, который обусловлен как наследственными факторами, так и условиями внутриутробного развития, и является основой фактического, присущего уже взрослой особи.
• Фактический потенциал зависит также от условий роста, формирования и воспитания особи, могущих как усиливать, так и ослаблять врожденные задатки.
• Визуальный ранговый потенциал определяется наличием у особи одного или нескольких второстепенных, но ярко выраженных признаков высокого или низкого рангового потенциала.
• Визуальный ранговый потенциал очень часто бывает иллюзорным, т. е. не соответствующим реальной способности особи к ранговой борьбе.
• Ранговый потенциал нескольких особей может суммироваться, если они способны формировать коалиции.
- На самом деле я умная, но живу как дура!
- Служба спасения любви, или Не позволяй своему принцу превратиться в козлика!
- Чего хотят женщины. Уроки игры на губной гармошке для мужчин
- Защитная книга от ссор и предательства. Стратегия победы настоящей женщины
- Жена – директор, или грамотное управление семьей
- Правда на миллион. Как стать богатой и знаменитой
- Любимая женщина. Путь к семье и благополучию (сборник)
- Полная система восстановления здоровья. Причины заболеваний и пути их устранения
- Счастье быть женщиной. Рожденная женщиной + рожденная желать
- Мужчина – это вообще кто? Прочесть каждой женщине
- Трактат о любви, как её понимает жуткий зануда
- Я у себя одна, или Веретено Василисы
- Вагина – твой космос
- Как найти любовь через Инстаграм. Флирт в Интернете и не только
- Говори и будь услышан. За кулисами успешного выступления
- Живи, люби, манипулируй: технология стабильных отношений
- Тейпирование лица. Омоложение во сне
- Код похудения: из L в XS. Нетолстая, неголодная и счастливая!
- Женщина глазами мужчины
- На меньшее не согласна! Методика здоровой самооценки
- Тейпирование тела. Худеем без усилий
- Косметика глазами химика. Одержимые составом
- Руководство по здоровой красоте и молодости кожи