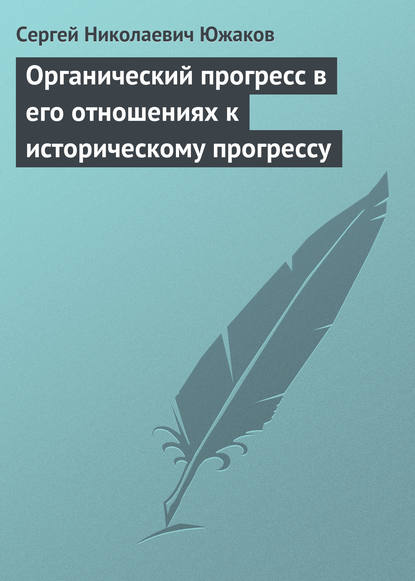Органический прогресс в его отношениях к историческому прогрессу
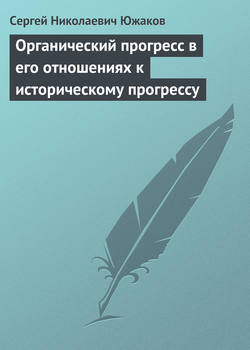
000
ОтложитьЧитал
Конт сказал, что без достаточно высокого нравственного уровня социолог легко может впасть в фатализм или оптимизм; после сказанного это нетрудно доказать. Только что мы видели, что без этого достаточно высокого нравственного уровня исследователь не может разглядеть нравственного элемента, т. е. основ, на которых держится общество, отношения личностей к обществу. А этого довольно, чтобы впасть в одно из указанных Контом заблуждений. Что такое фатализм как научная или философская доктрина? Конечно, учение о том, что все в обществе совершается по неизменным законам само собою, что никакая сила не в состоянии изменить этих законов, а следовательно (заключает фаталист), и порядка событий, а потому нам ничего не остается, как бездействовать уже потому, что мы ничего не в силах изменить своим действием; те, которые поступают иначе, жалкие слепцы, достойные своей участи, гибели, ожидающей их за возмущение против неизменного хода вещей. Не очевидно ли это следствие забвения или, лучше сказать, неспособности понять роли нравственного элемента в общественном процессе, забвения того, что основы каждого общества составляют те или другие отношения личностей к обществу, что, следовательно, из взаимодействия личностей слагается развитие общества и что, наконец, поэтому не невозможно направлять это развитие. Законы общественного развития неизменны, но что такое сами эти законы? Не просто ли это формулы взаимодействия личностей, равнодействующая личных сил? Если вы это будете помнить, т. е. если вы не будете чужды понимания роли нравственного элемента в обществе, вы никогда не впадете в фатализм. То же и об оптимизме. Основная ошибка оптимистов та же. Оптимист тоже убежден в неизменности общественных законов, тоже упускает из виду, что весь прошлый прогресс осуществился только как результат, равнодействующая личных усилий, он забывает или не видит всего этого, но зато видит, что общество прогрессирует. Затем он строит следующее умозаключение: общество развивается по неизменным законам, общество прогрессирует, ergo, общество прогрессирует в силу этих неизменных законов, прогресс есть закон общественной жизни, и он будет совершаться независимо от наших желаний и усилий. Так зачем же эти усилия? Будем лучше сидеть сложа руки и благоговейно преклоняться перед величественной картиной шествия человечества по пути прогресса; пусть вокруг нас кипит борьба, тянется и колеблется тяжба между сторонниками прогресса и реакции, пусть даже торжествует реакция, нам что за дело? Мы знаем, что прогресс – закон природы, и не прервем обеденного спича в честь прогресса, когда мимо окон проведут на казнь того, кто, быть может, своим самоотвержением и неустанною деятельностью, здоровьем и кровью не раз уже покупал наше право прославлять в обеденных спичах этот таинственный для нас и не требующий никаких пожертвований прогрессе Да, вполне прав был Конт, когда заметил, что необходим достаточно высокий нравственный уровень, чтобы, исходя из положения о законосообразности общественных явлений, не впасть в фатализм или оптимизм, и для того, чтобы согласиться с ним, вовсе не нужно прибегать к необходимости субъективного метода в социологии, потому что введение в исследование нравственного элемента и субъективный метод, т. е. объявление этого элемента методологическим критерием, далеко не одно и то же. Правда, г. Михайловский замечает, что "нравственная оценка есть результат субъективного процесса мысли"[107], но, право, сам г. Михайловский никогда не будет в состоянии объяснить, какой такой есть объективный процесс мысли. Все процессы мысли суть процессы мыслящего субъекта и, как субъективные, все они противуполагаются процессам мыслимым, объекту. Конечно, г. Михайловский своей фразой не хотел сказать подобной нелепости, но все же она не может служить возражением моим выводам как не имеющая, на лучший конец, никакого значения. Далее, там же г. Михайловский старается вывести из слов Конта, что ""не восхищаться политическими фактами и не порицать их" можно, только не понимая их значения". Не думаю, чтобы из слов Конта это следовало, тем не менее вполне соглашаюсь с самою мыслью г. Михайловского; но, скажите на милость, разве это помешает мне сделать вывод, вполне объективный, если только я способен на какой-либо вывод? Пусть представит себе г. Михайловский римлянина-социолога IV в. или V в. по Р. X.; этот гипотетический римлянин-социолог, исследуя свое отечество, не находит в нем никаких признаков жизни, все уже умерло, прежде чем сама организация государственного тела распалась, он видит неизбежность падения Рима, но он не желает, конечно, этого падения. Если принимать буквально уверения субъективной школы, то наш римлянин этого не увидит, не может увидеть, он просто определит условия возрождения даже тогда, когда никакие условия не возродят его; мне же кажется, что нежелание видеть падение своего отечества не помешало бы нашему предполагаемому исследователю предсказать этот факт, если бы он обладал достаточным для того научным материалом. Право, высказывая то или другое возражение против субъективной школы, мне иной раз кажется, что я воюю с мельницами, что наши мыслители никогда и в мыслях не имели положений, мною оспариваемых; так часто самый характер их работ говорит, что это невозможно. Но в таком случае какой смысл могут иметь все их аргументы? Ведь характер доводов должен быть в соответствии со смыслом защищаемого положения?
Что касается того положения, что, мысля общественные явления, мы необходимо мыслим пользу, вред, благо и прочие категории, окрашенные для нас в цвет желательности или нежелательности, в этом я так же мало сомневаюсь, как и в том, чтобы эта неизбежность налагала на нас обязанность строить общественную науку, исходя из положений одного из отделов ее, из нравственных теорий. Общество не только основано на личностях, но по самому нашему положению как личностей, его составляющих, мы и наблюдать-то ничего не можем, кроме отношений между личностями, личностей к обществу и общественной среде, если не считать, конечно, самих явлений этой среды, которая в наших глазах получает смысл все же только тогда, когда определим ее значение для личностей. Натурально, что вся наша терминология имеет такую же утилитарную окраску. Поэтому борьба с этою окраскою для всякого мыслителя и невозможна, и бесполезна: все слова, относящиеся к обществу, запечатлены ею; все отвлеченные и почти все общие конкретные названия в социологической терминологии непременно или прямо означают, или соозначают пользу, вред, благо или что-либо подобное, и, употребляя эти названия, вы необходимо называете и указанные признаки. Таким образом, если бы вы даже и не разумели ничего подобного, ваша фраза противоречила бы вашей мысли, и читатели прочли и поняли бы ее иначе; поэтому-то, сказал я, борьба бесполезна, но она и невозможна, потому что вы ничего другого и разуметь не можете, если вы лишите слова всего их содержания, существенных признаков, ими соозначаемых. Но как же вы тогда будете мыслить? Мышление требует различения и сходства, но вы уничтожили в ваших словах все, чем их соозначение различалось, именно игнорируете свойства означаемых явлений, насколько эти свойства отражаются на личностях, точнее и проще, игнорируете все их свойства как общественных явлений. Таким образом, пишучи и мысля при помощи наших языков, нельзя избыть утилитарного элемента. По-видимому, есть одно весьма смелое средство – именно отказаться от уже создавшейся терминологии и перенести в социологию терминологию какой-либо другой смежной науки, но – увы! – это средство чисто фиктивное! Вам необходимо определить ваши термины, т. е. в данном случае названиям, имеющим определенное значение и соозначение, придать новое значение и соозначение. Переменить значение, не выяснив нового соозначения, невозможно, потому, во-первых, что если существует два рода явлений, то уже по этой причине название, верно соединяющее в своем соозначении все существенные признаки одного из них, не будет соответствовать другому, а во-вторых, потому, что никто вас не поймет. Если же заимствованному термину постараетесь вложить новое соозначение, то этим самым вы ему вложите и утилитарный смысл. Читатель из этого рассуждения видит, что я не менее уважаемых мыслителей, мною разбираемых, убежден в неизбежности утилитарной окраски всех выводов социологии, но из этого еще не следует, чтобы их истинность была оцениваема или, лучше сказать, не могла бы иначе оцениваться, как на основании их полезности, желательности. Выше я об этом говорил достаточно и потому теперь ничего не прибавлю.
Прорезюмируем теперь сжато все изложенное. Субъективная школа объявляет, прежде всего, что объективный метод, общеупотребительный во всех науках, не может быть с успехом приложен к исследованию социологическому. Этот общенаучный метод состоит в оценке подлежащего исследованию предмета на основании категорий истинного и ложного, а единственным критерием этой истинности служит повторяемость явлений в неизменной связи. Но почему же он неприменим к социологическим работам? Во-первых, потому, что события в истории не повторяются, а где нет повторяемости явлений, там не может быть и объективного метода. В этой аргументации очевидное недоразумение, ибо исторические явления не повторяются только в том самом смысле, как и все другие процессы природы, именно как данные конкретные факты, "в данной совокупности", но как явления данного рода повторяются. Во-вторых, потому, что нельзя приписывать нашим нравственным воззрениям и оценке важности на основании их значения абсолютного, безотносительного к нашему пониманию. Это возражение против объективного метода основано на двусмысленности термина "наше понимание", "для человека" и пр. В-третьих, наблюдая общественные явления, мы, между прочим, наблюдаем цели, существование целей отличает процесс, подлежащий исследованию социолога, а это делает оценку этих исследований на основании одних категорий истинного и ложного недостаточною. Тут две ошибки: неверна основная посылка в том виде, в каком выставляется, потому что "цели в природе сказались" совершенно независимо от возникновения общественного процесса; с другой стороны, исправленная или нет, эта посылка не ведет к выводу о недостаточности категорий истинного и ложного при построении социологии уже потому, что желательно только возможное, неистинное же и невозможно. В-четвертых, никакое исследование невозможно без предвзятого мнения; такое предвзятое мнение в социологии есть нравственное миросозерцание. Совершенно справедливо, точно так же, как в физике предвзятым мнением будет последняя физическая теория, так что сам по себе этот аргумент ничего не доказывает; он бы имел цену лишь тогда, когда бы вышеприведенные доводы были верны. Таким образом, разобрав шаг за шагом всю аргументацию субъективной школы, которою она старается доказать неприменимость к социологии объективного метода, мы можем, наконец, сказать, что отрицательная сторона ее доктрины не выдерживает критики. Что касается положительной стороны, то в основании ее лежит глубоко истинная идея о значении нравственной доктрины в социологии, но нравственная доктрина есть учение об отношении личности к обществу, о приспособлении жизни к условиям общественного существования, так что ее значение в социологии понятно и без каких-либо субъективных подставок. Ошибка субъективистов заключалась в том, что они теоремы социологии приняли за теоремы логики и доктрину, долженствующую влиять на содержание науки, объявили методологическим критерием. Собственно говоря, такая постановка вопроса есть сама по себе уже отрицание социологии как особой науки и отождествление ее с политикой. Вред такого смешения абстрактного отдела обществознания с прикладным очевиден, особенно если присоединить к этому столь общераспространенное смешение конкретной и абстрактной социологии.
У нас в литературе так принято злоупотреблять полемикой и делать из нее орудия самолюбий, что я чувствую, кончая эту статью, необходимость просить разбираемых мною авторов верить, что статья эта внушена не желанием блеснуть полемическою ловкостью, но единственно глубоким убеждением в ошибочности их воззрений и уверенностью, что это заблуждение, исходя из положений, вполне истинных, и обращаясь к лучшим инстинктам человеческой природы, легко может популяризоваться и принести вред весьма многим начинающим думать о социальных явлениях. На себе самом я испытал всю тяжесть этой предварительной методологической работы; субъективизм связывает свое дело с такими принципами, которые не могут не быть дороги каждому порядочному человеку, а известность его защитников только скрепляет эту связь; распутать эту связь нелегко для неопытного мыслителя, и это-то внушило мне мысль опубликовать мое возражение. Все, что я желаю, – это чтобы и мои оппоненты не иначе истолковали эту статью.