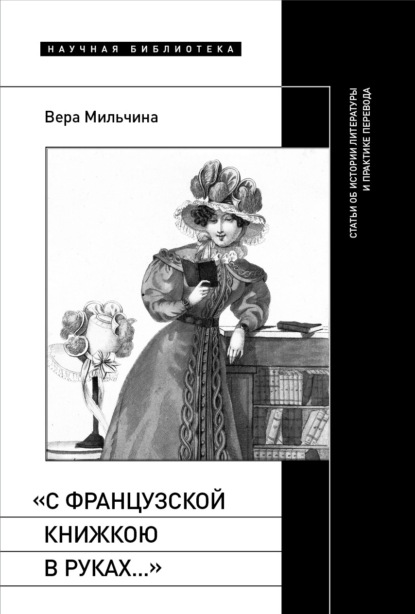«С французской книжкою в руках…». Статьи об истории литературы и практике перевода
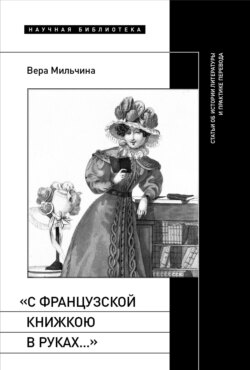
000
ОтложитьЧитал
в) примечания библиографические и историко-литературные
В последнем процитированном фрагменте примечание переходит из автобиографического в библиографическое. Случай этот в путевых записках Шаликова не единственный. Написав фразу «Из спектакля или, лучше сказать, из сарая – хотя бы из Дессенева – мы возвращались к милой знакомке моей», Шаликов делает примечание к слову Дессенева: «См.: Voyage sentimental» [Шаликов 1804: 94], отсылающее читателей к «Сентиментальному путешествию по Франции и Италии» Лоренса Стерна, где описаны трактирщик Дессен и его каретный сарай. А написав фразу «Если бы я имел кисть Августа Лафонтена, я изобразил бы картину Семейства…», Шаликов в примечании дает к фамилии Лафонтена настоящую литературно-критическую справку:
Немецкий Романист. Между прочими, вообще хорошими его романами один под титулом: Новые семейственные картины, так живописен, так интересен! … Вот что переводчица его на французский, г-жа Монтольё, говорит об авторе в предисловии своем переведенного ею другого его романа, под титулом: Деревня Лобенстенн: «Лафонтен есть более глубокий моралист, нежели хороший сочинитель романов: он раскрывает сердце человеческое, проницает до малейших его изгибов и обнаруживает тайные причины действий и мыслей с таким искусством, с такою истиною, к которым немногие писатели приближились» [Там же: 188–189]39.
г) примечания-переводы
В эту категорию входят прежде всего традиционные переводы иностранных слов и выражений. Во фразе «Нимало не хочу надменным быть Пансофом» комментируется Панфос – «Всезнающий» [Там же: 109]. К словам «Nil mortalibus arduum est» следует примечание: «Горациев известный стих: Нет для смертных невозможного» [Там же: 28]. Но порой Шаликов помещает в примечаниях и перевод с русского на русский. К словам «при наступающем шторме» он добавляет: «Так по-морскому называется буря» [Шаликов 1817а: 6]. А во фразе «Кто вздумает искать под грозным Марсовым панцирем нежного сердца, под тяжелым шлемом тонких идей?.. Но я нашел одно и другое – под дулманом и кивером» комментирует слова, выделенные курсивом: «*Гусарская одежда. **Гусарский головной убор» [Шаликов 1804: 148]40.
д) примечания, естественно продолжающие основной текст
И наконец, последний разряд – это реплики, восклицания, эмоциональные замечания, которые совершенно естественно и беспрепятственно могли бы быть помещены в основной текст, но Шаликов раздробляет его на ту часть, которую размещает на самой странице, и на другую, которую отправляет в примечания. Например, фразу «В другое время я бы ел с таким аппетитом бланманже, желе и проч., но в тот раз мне все казалось металлом, на котором мы обедали!» сопровождает примечание: «Сервиз был серебряный!!» [Шаликов 1804: 254]. В «Путешествии в Кронштат 1805 года» Шаликов в основном тексте упоминает «берега, которые обыкновенным мореходцам приятны», а в примечании к слову берега пишет: «Петергофский и Финский. Первый чрезвычайно живописен с моря или залива» [Шаликов 1817а: 4–5]. Фразу «Кронштат явился нам во всей полноте своей: каменная стена гавани, единственной в свете» сопровождает примечание: «Она построена, так сказать, среди моря, ибо выходит со дна его в некотором расстоянии от Кронштата» [Там же: 8], а упоминание «чая на английский вкус» влечет за собой примечание: «Надобно знать, что жители Кронштата великие Англоманы» [Там же: 12].
Так обстоит дело с книгами путевых записок.
Наконец, и свои литературно-критические статьи Шаликов охотно снабжал довольно пространными и содержательными примечаниями; приведу один пример, связанный также с переводами французской литературы. В 1806 году в июльском номере журнала «Московский зритель» Шаликов, разбирая перевод басни Лафонтена «Мышь, удалившаяся от света», сделанный его литературным патроном и кумиром И. И. Дмитриевым, сообщает в примечании любопытный факт из творческой истории этого перевода, касающийся строки «И руки положа на грудь свою крестом»:
Я слышал однажды от поэта-переводчика, что он написал махинально руки вместо лапки; без сомнения так; ибо ничто не обязывало написать руки: ни мера, ни просодия; к тому же лапки крестом сделало бы очень хорошую противоположность (цит. по: [Вацуро 2000: 53]).
И в следующих изданиях Дмитриев в самом деле заменил «руки» на «лапки».
***
Два исследователя комментария, имея дело с совершенно разным материалом, пришли к отчасти сходным выводам. Ю. М. Лотман писал, что Пушкин, сопровождая собственные поэмы примечаниями, вводил в них другую точку зрения и тем самым преодолевал романтический монологизм [Лотман 1995a]; Н. В. Брагинская видит в «комментарии к традиционному жанру» «способ неосознанного преодоления традиции: построенный на уважении к авторитету, в результате он оказывается полигоном инноваций» [Брагинская 2007: 65]. В обоих случаях комментарии/примечания ценятся за то, что рассказывают о том же, о чем говорит основной текст, иначе, чем говорит основной текст. Шаликовские же примечания к Шатобриану интересны, как мне представляется, именно тем, что они принципиально не отличаются от текста переводимого и комментируемого автора: Шаликов видит в Шатобриане собрата-литератора и обходится с его текстом так же, как со своим собственным. Для Шаликова примечания – органичная форма литературного высказывания; он с равной охотой высказывается и в верхней, основной части страницы, и в подстрочном пространстве. Возможно, именно поэтому он, совершенно не смущаясь, ставил свои примечания рядом с шатобриановскими – для него такой литературный жест был совершенно естественным. Он комментировал чужие тексты, как свои, потому что комментировал свои, как чужие.
«КОДЕКС ЛИТЕРАТОРА И ЖУРНАЛИСТА» (1829) – МАНИФЕСТ «ПРОМЫШЛЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
В «Трактате об элегантной жизни» (1831) Бальзака есть выразительный фрагмент, посвященный одному жанру тогдашней литературы:
Если речь идет о людях вообще, существует кодекс прав человека; если речь идет об одной нации, существует политический кодекс; если речь идет о наших материальных интересах – финансовый кодекс; если о наших распрях – гражданский кодекс; если о наших проступках и нашей безопасности – уголовный кодекс; если о промышленности – коммерческий кодекс; если о деревне – аграрный кодекс; если о солдатах – военный кодекс; если о неграх – рабовладельческий кодекс; если о лесах – лесной кодекс; если о плывущих под нашим флагом кораблях – морской кодекс… Одним словом, мы регламентировали все на свете, от придворных траурных церемоний и объема слез, которыми следует оплакивать короля, дядюшку и кузена, до скорости и распорядка дня эскадронной лошади… <…> Учтивость, чревоугодие, театр, порядочные люди, женщины, пособия, арендаторы, чиновники – все и вся получило свой кодекс [Бальзак 1995: 234].
Кодексы, о которых идет речь, представляли собой сборники полусерьезных-полушутливых советов и правил на все случаи жизни. Эти книжечки небольшого формата (в 12‐ю или 18‐ю долю листа) в 1825–1830 годах сочиняла и с большим успехом публиковала целая группа молодых поденщиков под руководством плодовитого литератора и «литературного антрепренера» Ораса-Наполеона Рессона (1798–1854)41; Бальзак активно работал в рессоновской «бригаде», так что знал о кодексах не понаслышке. Кодексами эти книги назывались потому, что формально подражали главному законодательному документу Франции – Гражданскому кодексу, который был написан и введен в действие в 1804 году по инициативе Наполеона (в разговорной речи он так и назывался наполеоновским). Кодексы Рессона и компании были разбиты на разделы и статьи – в точности как кодекс-прародитель. Этой формой, пародировавшей главный юридический документ эпохи, кодексы отличались от других изданий аналогичного содержания – тех, у которых на титульном листе стояло «Manuel» (Учебник) или «L’art de…» (в дословном переводе «Искусство» делать то-то и то-то, но я предпочитаю переводить такие названия как «О способах» делать то-то и то-то, например «О способах повязывать галстук», «О способах делать долги», «О способах давать обед» и т. д.). В содержательном плане «Кодексы» не слишком отличались от «Учебников» и «Способов»; все эти книги описывали и регламентировали бытовое поведение светских людей вообще и представителей конкретных профессий в частности42. В прошлом у книг этого типа – трактаты XVII–XVIII веков о правильном поведении в свете [Montandon 1996]; в будущем – комические нравоописательные зарисовки-«физиологии» [Stiénon 2012; Мильчина 2014]. С первыми «Кодексы» и их аналоги роднит стремление к регламентации бытового поведения, со вторыми – комический тон повествования. В число «рессоновских» кодексов входят «Гурманский кодекс» и «Кодекс беседы», «Кодекс коммивояжера» и «Кодекс литератора и журналиста», «Галантный кодекс» и «Кодекс любви», «Супружеский кодекс» и «Эпистолярный кодекс», «Кодекс туалета» и «Кодекс будуаров» и пр., и пр. Кажется, как и констатировал Бальзак, не было такой сферы повседневной жизни, к которой бы не прилагался соответствующий кодекс. В одном только 1829 году, когда жанр достиг своего расцвета, согласно Bibliographie de la France, вышло вдобавок к «настоящему» наполеоновскому Гражданскому кодексу без малого четыре десятка книг со словом «кодекс» на титульном листе43.
Каждая (или почти каждая) из них достойна отдельного разговора, но в данной статье речь пойдет только о той, что вышла из печати 6 июня 1829 года анонимно под названием «Кодекс литератора и журналиста. Сочинение литературного антрепренера». Авторство кодексов, выходивших из рессоновской «мастерской», – проблема неразрешимая. Некоторые из этих книг выпущены без имени автора, на титульном листе других автор указан (в частности, «Гражданский кодекс. Полный учебник учтивости», «Кодекс туалета» и «Брачный кодекс» вышли под именем Рессона), однако, скорее всего, над каждой книгой работали несколько литературных поденщиков, связанных узами приятельства. По всей вероятности, и «Кодекс литератора и журналиста» Рессон сочинял не один; более того, существует даже точка зрения, согласно которой он вообще сам ничего не писал, а только пристраивал кодексы в издательства и выставлял на титульном листе некоторых из них свое имя [Raisson 2013: 18]. Тем не менее современные библиографы приписывают этот кодекс Рессону, и я в дальнейшем буду исходить из этой атрибуции, тем более что для цели данной статьи важно не имя реального автора «Кодекса литератора и журналиста», а его содержание.
На первый взгляд может показаться, что эта книга – не более чем циничная исповедь литературного поденщика. Однако если рассмотреть «Кодекс литератора» на фоне дальнейших литературно-критических дискуссий, рессоновский иронический «пустячок» предстанет одной из первых и весьма самобытных реплик в споре, который разгорелся во Франции несколько лет спустя, – споре о «промышленной литературе».
В статье, специально посвященной понятию «промышленная литература», Антони Глиноэр следующим образом описывает его возникновение:
Литература романтической эпохи очень скоро начинает ощущать себя в опасности. Она чувствует, как изнутри ее подтачивает могущественный демон, рождение которого она приписывает то порче писателей, сделавшихся профессионалами от словесности, то расширению читательской публики, включающей в себя отныне классы работящие и опасные. Имя этому демону – промышленность. Ее цель – опустить литературное творчество до самого низшего уровня, а ее источник – демократизация литературы как в области производства, так и в области восприятия. На протяжении 1820‐х и 1830‐х годов эти сигналы тревоги раздавались беспрестанно и вскоре слились в продолжительную литанию, исполняемую на разные лады и разным тоном [Glinoer 2009: 1].
Так возникает деление на литературу чистую и нечистую, художническую, предназначенную для избранных, и промышленную, адресованную всем и каждому, на литературу «для салонов» и литературу «для горничных» [Stendhal 2005: 824], а литераторов – на тех, кто «живет ради сочинительства», и тех, кто «живет сочинительством» [Durand 2012: 11]. Две ветви существуют параллельно, и каждая идет своим путем. Но отношение к ним у литературных критиков очень разное: первую они в основном превозносят, а вторую осуждают в тех тревожных литаниях, о которых пишет Глиноэр.
В 1832 году Гюстав Планш в очерке «День журналиста», рассказывая о том, как «драмоделы» уродуют высокую прозу и превращают ее в дешевую мелодраму, выдвинул оппозицию двух частей, на которые делится современная литература, – «искусства и промышленности»; первое его восхищает, вторая – возмущает:
Художники придумывают идею, углубляют ее, преобразовывают, перестраивают по своему вкусу, дабы сообщить ей больше ценности и красоты. Докончив свою бронзовую или мраморную статую, они сдергивают покрывало и говорят: «Смотрите». Толпа равнодушно проходит мимо и тотчас забывает увиденное. Тут являются дерзкие мародеры, которые крадут чужое в уверенности, что невежество гарантирует им безнаказанность. Они изготавливают жалкую копию и разукрашивают ее мишурой, блестками и цветными каменьями. Они наштукатуривают ей лицо румянами, выталкивают ее на сцену и говорят: «Вот мое творение». И этот плод литературного пиратства публика поощряет аплодисментами, вниманием, смехом и разинутым ртом. Она забывает об искусстве и рукоплещет промышленности [Мильчина 2019а: 470–471].
Следующая важная дата в обсуждении промышленной литературы – 1833. В декабре этого года Дезире Низар напечатал в журнале Revue de Paris статью «О начале реакции против легкой литературы», введшую в обиход понятие «легкой» литературы (авторы которой стремятся только развлекать читателей и зарабатывать деньги продажей этих развлекательных книг). Низар упрекал «легкую» литературу во множестве прегрешений и среди прочего в том, что она превратилась в «промышленность»44. Жюль Жанен, один из главных «антигероев» статьи Низара, ответил ему в том же журнале в январе 1834 года статьей «Манифест юной литературы» (Manifeste de la jeune littérature), или, как стали называть эту литературу в России с легкой руки О. Сенковского, «юной словесности». В своей статье он обыграл и «торговый» аргумент: хотел бы я посмотреть, говорит Жанен, обращаясь к Низару, что вы станете делать, если за ваш красноречивый манифест против легкой литературы кассир Revue de Paris решит заплатить вам на четверть меньше обещанной суммы только потому, что в редакцию поступило очень много хорошей серьезной (а отнюдь не легкой) прозы! Вряд ли вам это понравится.
Низар, однако, настаивал на своем и в статье «Поправка к определению легкой литературы» (в которой прибавил к эпитету «легкая» слово «бесполезная») разбранил эту самую ненавистную ему литературу в том числе и за ее «промышленный» характер:
Знаете ли вы, что значит на языке наших нынешних знаменитостей: «Пьеса провалилась»? Это не значит, что ей не суждена бессмертная слава! Это значит просто-напросто, что она не принесла больших сборов. <…> В такой словесности [легкой и бесполезной] всякий рождается писателем, поскольку здесь все, что сказано, считается сказанным хорошо; здесь не выбирают ни публики, для которой пишут, ни денег, на которые живут. Здесь гордо приравнивают себя к торговцам, к промышленникам, чем бы они ни занимались; здесь говорят «я держу лавку двусмысленностей, вольных сцен, соблазнительных драм» точно так же, как «мой чулочник держит лавку чулок». Книга стоит не больше пары чулок; когда она запачкается, ее бросают в корзину для мусора, и она вновь превращается в тряпку, но если на нее есть спрос, запас пополняют, как пополняют запас любого другого товара. <…> В нашей промышленной литературе писатель ценился ниже купца и богача до тех пор, пока он имел над ними лишь превосходство умственное и нравственное; простая перемена в звании писателя восстановила равенство. Теперь нас окружают одни лишь торговцы, чем бы они ни торговали.
Легкая и бесполезная литература, продолжает Низар,
продает адюльтеры дюжинами, как хлопчатые чулки; она испекает каждый день новую книгу, как пирожник печет каждый день новые пирожки (я рассуждаю о ней исключительно как об отрасли промышленности), а если публика не успевает потребить книгу в тот же день, легкая литература одевает оставшиеся экземпляры в новые обертки, примерно так же, как пирожник разогревает вчерашние пирожки. Она согласилась жить без завтрашнего дня, она превратила профессию в ремесло, по ее вине звание литератора сделалось постыдным и стало предпочтительнее слыть чулочником, чем писателем [Nisard 1834: 18–19].
Наиболее полное и знаменитое воплощение этот протест против торговой литературы получил в статье Сент-Бёва «О промышленной литературе», напечатанной 1 сентября 1839 года в Revue des Deux Mondes. Вся она есть не что иное, как обличение тех корыстных литераторов, которые выдвигают на первый план денежную сторону дела и считают доказательством дарования крупный гонорар. Именно их творения Сент-Бёв называет промышленной литературой (littérature industrielle)45.
На протяжении XIX века традиция осуждения такой литературы оставалась наиболее влиятельной; лишь изредка находились авторы, пытавшиеся «снять» противоречия между высокой литературой, якобы всегда обреченной на бедность, и литературой, способной прокормить того, кто ею занимается. Эти авторы утверждали, что талант имеет право на справедливую оплату, а отнимать у него вознаграждение (в частности, превращая без авторского разрешения прозу в пьесы – та самая ситуация, на которую сетовал Планш в процитированном выше фрагменте) – форменный грабеж; об этом, например, писал Бальзак в статье «Письмо к французским писателям XIX века», датированной 1 ноября 1834 года и опубликованной в Revue de Paris 2 ноября того же года, то есть вскоре после спора между Планшем и Жаненом. Неудивительно, что Бальзак, не имевший иных средств к существованию, кроме литературных заработков, стал одним из активных членов основанного в 1838 году Общества литераторов, созданного именно для того, чтобы отстаивать права авторов на получение платы за свой интеллектуальный труд и, в частности, защищать литераторов от контрафакторов [Prassoloff 1990: 171–173]46.
Право литераторов не стыдиться требовать достойной оплаты за свой труд отстаивали порой и люди, сами не так сильно заинтересованные в литературных гонорарах; ср., например, мнение политического деятеля, депутата и с 1846 года члена Французской академии Шарля де Ремюза, высказанное в статье «О духе литературы в эпоху Реставрации и после 1830 года»:
Нынешнюю литературу обвиняют в меркантильности и в приверженности к импровизации. Упрек не лишен оснований; однако его следует адресовать отнюдь не только тем, к кому его обращают. Писателям наскучило видеть, как все ремесла приносят прибыль, кроме ремесел умственных; понятно, что они пожелали взять реванш и представить свои патенты на финансовое благородство. В самом деле, соблазн был слишком велик. Промышленность, благодаря размаху своих операций, изощренности своих расчетов, быть может даже благодаря умению набивать цену не только своей продукции, но и самой себе, играет в современных обществах главную роль. Нынче она ведет к почестям. Почему же в таком случае талант не может вести к богатству? Право, очень смешно слышать, как общество упрекает литературу в том, что она сделалась промышленной. А само общество? А политики – разве они не поступают точно так же? [Rémusat 1847: 499; то же: Querelle 1999: 252].
Еще одна попытка снять противоречие между творчеством и финансами, между смыслами и деньгами, между сакрализованным романтическим поэтом и литератором, зарабатывающим себе на жизнь, сочувственно описана в романе «Отверженные» (ч. 3, кн. 5, гл. 1), где Виктор Гюго даже предложил для поденного литературного труда оригинальный термин «литература-книготорговля» [Vaillant 1986; Gleize, Rosa 2003]47.
Наконец, в конце века, в 1880 году, Эмиль Золя выступил с очень серьезной концептуальной статьей в защиту финансовой обеспеченности литераторов как залога их независимости [Zola 1880; рус. пер.: Золя 1966]. Полемизируя с Сент-Бёвом как самым ярким глашатаем устаревшего взгляда на соотношение творчества и денег, Золя показывает все выгоды нового положения вещей, при котором человек пишущий и печатающийся освобождается от унизительной необходимости искать протекции богачей, поскольку получает достойную плату за свой литературный труд.
Однако такие случаи оправдания и даже воспевания «товарно-денежных» отношений в литературе для XIX столетия скорее исключение, чем правило; гораздо чаще писатель, который пишет «для денег», подвергается осуждению; ему противопоставляется гений, который презирает подобные формы зависимости от публики и издателей (но при этом имеет какой-то иной источник дохода: наследство, правительственные субсидии, академическую пенсию и т. д.)48.
Наметив пунктирно ход дискуссий о промышленной, или торговой, литературе от 1830‐х до 1880‐х годов, возвратимся назад, к рубежу 1820–1830‐х годов.
Обсуждение (и осуждение) этой литературы началось во Франции, как видно из приведенных выше дат, в середине и конце 1830‐х годов, причем Сент-Бёв – подчеркнем это – утверждает, что прежде, в эпоху Реставрации, корыстные литературные аппетиты не выставлялись напоказ, даже компиляторы вдохновлялись некими идеалами, обнажились же эти процессы только после Июльской революции, когда профессионализация литературного труда привела к злокозненной «меркантилизации» литературы. То обстоятельство, что Сент-Бёв специально подчеркивает чистоту и бескорыстие литературных отношений в эпоху Реставрации, вполне понятно: сам он в это время состоял членом «Сенакля» – группы возвышенных молодых литераторов, группировавшихся вокруг Виктора Гюго, и сочинял новаторские драматические стихи от имени вымышленного поэта Жозефа Делорма: ему не было дела до того, что происходит в «торгово-промышленной» сфере.
Другие авторы, писавшие на эту тему, хотя и с противоположных позиций, также называют датой осознания «торгово-промышленного» аспекта литературы конец 1830‐х – начало 1840‐х годов. Огюст Лакруа в книге «О современном состоянии литературы и книжной торговли во Франции» (1842) констатирует:
Еще совсем недавно книга представляла для читателя не более чем отвлеченный плод ума; ни материальную, ни коммерческую сторону дела он в расчет не принимал. Смешать идею прибыли с идеей философической или литературной показалось бы ему чудовищной аномалией. Его мысль переносилась напрямую из кабинета автора в мастерскую печатника [Lacroix 1842: 15].
Такая периодизация носит не только субъективный, но и вполне объективный характер; именно 1830 год исследователи отношений между писателями, издателями и читателями называют рубежной датой, после которой начали развиваться все те процессы, которые достигли своего полного развития к концу XIX века: совершенствование полиграфической промышленности, позволяющее печатать книги за меньшую цену большими тиражами, появление огромного числа периодических изданий, позволяющих начинающим литераторам в той или иной степени зарабатывать себе на жизнь литературным трудом, превращение писательства в «профессию, ничем не отличающуюся от всех прочих профессий» [Charles 1990: 165], учащение конфликтов между «умом» и «материей», между писателем и издателем49. Причем поскольку «ум» по определению мог защитить себя более красноречиво, чем «материя», то и апологий сочинительства ради искусства известно куда больше, чем апологий сочинительства ради денег. А миф о несчастном поэте, сложившийся ко второй половине XVIII века и связывающий литературное величие со страданием, вел, соответственно, к установлению корреляции между посредственностью и литературным успехом – отсюда многочисленные художественные произведения о страдающих гениях и благоденствующих бездарностях [Brissette 2008]. Не случайно Виктор Гюго, к концу Июльской монархии заработавший литературным трудом огромные богатства, охотно представлял себя в старинном амплуа несчастного поэта [см.: Brissette 2005; David 2006: 131].
Тем любопытнее опубликованный еще в эпоху Реставрации, в 1829 году, «Кодекс литератора и журналиста» [Raisson 1829], автор которого, ничуть не скрывая «торгового» аспекта литературного ремесла и даже, наоборот, в свойственном кодексам игриво-провокативном стиле выставляя его на первый план, рассказывает о сочинительстве исключительно как о коммерции и способе заработать на жизнь и даже разбогатеть. Между упомянутым выше серьезным манифестом Золя и шутовскими кодексами 1820‐х годов – дистанция огромного размера, не только хронологическая, но и содержательная, и тем не менее в лице Рессона у Золя находится своего рода предшественник50.
«Кодекс литератора и журналиста» как пример преимущественного внимания именно к «торговой литературе» коротко упомянут в статье А. Глиноэра [Glinoer 2009: 4]. Кроме того, Рессон поставлен в параллель с Сент-Бёвом в совместном переиздании «Кодекса литератора» и статьи «О промышленной литературе» [Raisson 2008] и в статье Мари-Бенедикт Дьетельм [Raisson 2013: 35]. Однако вообще исследователи темы «Литература и деньги» о Рессоне практически не вспоминают.
Между тем кодексы не только издавались прежде всего ради прибыли, но и нередко содержали метатекстуальные пассажи, обнажавшие меркантильные цели их авторов. О том же охотно писали рецензенты (рецензии эти по большей части неподписанные, и нередко их писали сами сочинители кодексов).
Так, автор рецензии на «Гражданский кодекс», напечатанной 23 мая 1828 года в газете «Фигаро», указывает, что общие правила учтивости, изложенные в этом кодексе, вечны и пригодятся не только сегодняшним людям, но и их внукам, но, поскольку книги, предназначенные только для потомков, не найдут сбыта сегодня и будут, к невыгоде книгопродавца, пылиться на складах, автор кодекса включил в него также и правила поведения, так сказать, сиюминутные. Благодаря этому «Кодекс» может достичь сразу двух целей: доставить автору славу, а книгопродавцу – успешную торговую спекуляцию. Кодексы вообще, по определению Патриcии Бодуэн, представляют собой учебники для карьеристов, трактаты о покорении мира [Raisson 2008: 28; Baudoiun 2009: 38].
Что же касается «Кодекса литератора и журналиста», то его автор объявляет об этой цели в самых первых строках предисловия и сразу принимается развивать во всех подробностях свою заветную мысль о литературе как прежде всего и по преимуществу источнике заработка. В предисловии он пишет:
Каждый живет своим ремеслом, и литераторы или художники ничем не отличаются от всех прочих; конечно, Гомер просил подаяния, зато Вольтер заработал сто тысяч ливров ренты, и это не помешало ему считаться столь же великим гением.
Так вот, юные авторы, остерегайтесь прислушиваться к ложному тщеславию, которое постоянно внушает вам: «Отделяйте поклонение Музам от поклонения Плутусу. Вдохновение требует свободы, оно бежит того, кто алчет денежного воздаяния». Быть может, прежде эти софизмы были правдивы, нынче же они совершенно неуместны. Век наш слишком положительный, чтобы руководствоваться подобными рассуждениями. Благодаря прогрессу политической экономии нынче каждый знает, что прекрасно лишь то, что может быть обращено в звонкую монету. Будьте нищим, и вы прослываете болваном; умейте заработать своим пером неплохой доход, и каждый оценит ваш гений по вашему состоянию, а там недалеко и до места в Академии. <…>
В 1829 году автор обязан быть человеком любезным, чтобы заработать много денег; прежде чем помышлять о славе, ему надобно позаботиться о богатстве. Правда, я уже слышу, как не один юный гений, все еще погруженный в свой «Gradus»51, но уже мечтающий о славе, восклицает, пробежав несколько страниц моего предисловия: «Этот мнимый наставник литераторов не думает ни о чем, кроме денег!.. Отринем его коварные советы; Музы не столь продажны!»
Ах, друг мой, оглянитесь вокруг, прошу вас, и скажите, что нынче не продается? Воин, конечно, не должен думать ни о чем, кроме славы; он проливает кровь ради отечества не за деньги. Тем не менее скажите мне, дитя, разве хоть один маршал Франции, принимая маршальский жезл, не согласился принять также и сорок тысяч франков, причитающихся ему вместе с этим почетным знаком отличия? Разве хоть один герой, награжденный крестом, пусть даже самым блестящим, отказался от сопутствующей ему пенсии? Наконец, разве хоть один несчастный солдат отверг кров и стол в Доме Инвалидов?
Профессия защитника вдов и сирот пользуется огромным уважением; однако разве хоть один адвокат облачился бы в мантию и явился во Дворец правосудия, не будь ему обещан гонорар? Те, кто умеет лечить людей, достойны еще большего почтения; заслуги наследников Эскулапа стоят, как часто говорится, дороже любых денег; однако разве найдется среди современных Гиппократов хоть один, кто бы не сочетал с почестями выгоду? Разве хоть один богач, исцеленный от воспаления легких или катара, не получил затем счет от врача?
<…> Коль скоро все на нашей земле получают плату за свои труды, отчего же литературе оставаться единственным занятием, обрекающим своих служителей на голодную смерть? Этого допустить невозможно. А если уж литераторам полагается плата, пусть лучше она будет не жалкой, а щедрой: именно ради этого и написана наша книга.
Мы отлично знаем, что, проповедуя литераторам любовь к богатству, мы ломимся в открытую дверь; поэтому спешим заметить, что обращаемся мы не к опытным практикам литературного дела, а к юным новичкам, которым ложные идеи, усвоенные на школьной скамье, не дают высвободиться из пелен. Пусть эти юнцы изучат наш кодекс, и им станет ясно, что литература – почтенное ремесло, ремесло, которое позволяет не просто жить, но жить безбедно и которому можно научиться, как и любому другому ремеслу в сфере промышленности [Raisson 1829: III–IV, VI–VIII, IX–Х].
В первой главе «Слово к читателю» Рессон продолжает развивать те же идеи, причем подчеркивает, что его книга не имеет ничего общего с обсуждением вопросов чисто литературных:
Не подумайте, почтенные читатели, что мы располагаем с помощью наших наставлений сообщить гений или даже талант литераторам, не получившим этих счастливых даров от природы. Мы не намерены даже касаться вопросов искусства и определять, какими дорогами хороший вкус предписывает следовать и каких опасностей велит избегать. Мы не станем ничего говорить ни о классиках, ни о романтиках. Мы не станем собирать воедино правила Аристотеля, Лонгина или еще каких-нибудь риторов, чтобы указать, кого из них надобно почитать, а кого – презирать [Ibid.: 11–12].
Вместо храма Парнаса, резюмирует Рессон, мы проложим дорогу в храм Фортуны.