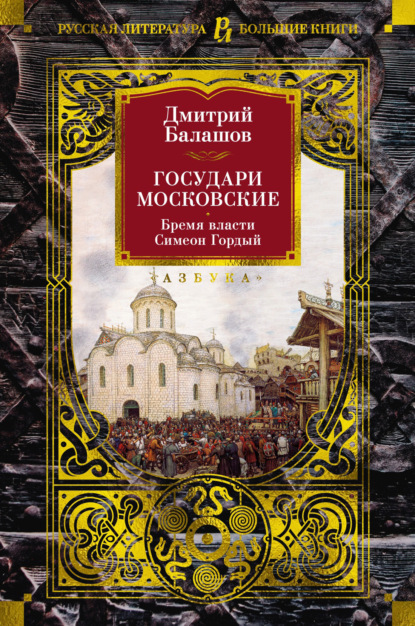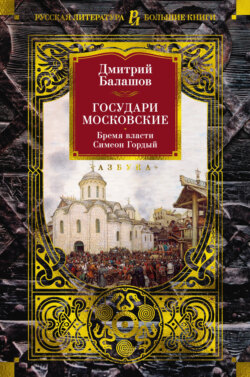
000
ОтложитьЧитал
– А, Иван и тут первый поспел! – прокричал Федор.
– Не шуми до поры! – возразил Иван. – Скоро тебе воеводить на дели придет?
– Против Иван Данилыча?
– Противу татар! – значительно изрек Иван, погасив веселье братьев.
Зарассаживались. Андреиха сама внесла обернутый полотенцем дымящийся горшок щей. Отложив взятую было ложку, Федор выпрямился:
– Чтой-то опять темнишь, брат!
– Снидай, снидай! – добродушно окоротил Иван. – Поснидашь, сам все скажу-выскажу! Ты-то вот, Ляксандр, законник, ты у нас тысяцкой! – лукаво добавил он, глядючи на двоюродного брата.
– Не зуди! – угрюмо отозвался Александр. – Теперича буду и тысяцким вскоре!
Тверским тысяцким назначил князь Александр боярина Морхинина словно в насмешку. Где Тверь и где они? Но теперь, верно, вроде бы вскоре звание тысяцкого должно было обрести силу.
– И ты, брат, подумай преже: не под новый ли погром тверичей поведешь?! – продолжал Иван, словно не заметив обиды двоюродника.
– Да молви толком! – взорвался Федор.
– Повести мужикам, с чем пришел! – подал свой голос и Андрей Кобыла.
Иван кончил щи, рыгнул, сыто отвалил к стене.
– Дак вот, други! То были грамоты, а ныне полный договор с Гедимином подписан: Литве – Смоленск, а против хана – вместях!
Сотрапезники замерли.
– Как же без нас-то? – недоуменно протянул Андрей. – Думу ить вместях думали! – присовокупил он с обидою.
– Немчин все, Дуск ентот самый, и тот, другой, Гедиминов, Жигимунт, Зигмунд, разом-то не выговоришь! Они и подвели. Дак вот и разглядайте, други, не дорого ли плачено за великий стол?
– Эх! – встряхнул головою Федор. – Неполюби мне твои подходы, Иван! Ить стало б одно: альбо служить Александру Михалычу, а другояко – отъезжать от ево!
– Дак почто тогда естолько летов тута сидели?! – прогудел Андрей. И Александр Морхинин тоже покачал головой с осудительной раздумчивостью:
– Немцы – они немцы и есть. И Гедимин, дружья-товарищи, у ево своя беда на дворе! Ему с ляхами да чахами сговорить, да Орден ентот на хвосте висит, а в Подолин с татарвой рать без перерыву… Ево, други, понять мочно! А вот Русь как тут… Можем ли мы Русь спасти, коли правде изменим?! Задал ты задумку немалу, Иван!
Иван, ожидавший дружного возмущения друзей, молчал. Что-то – он еще не понимал что – не получалось, не выходило так, как он задумал сегодня из утра, да и сам он уже начинал колебаться в своих мыслях. А ну как правы братья и спешить с осуждением князя Александра вовсе не след?
И началась долгая пря, в коей хороводом проходили Москва, Литва и Орда и где решалось и так и другояк и всяко оказывало одно: надо годить, ждать, глядеть, как оно повернет. А пока безусловно и дружно помогать князю Александру.
Смеркло. Внесли свечи. Уже многажды, вновь и вновь, наполнялись кувшины с квасом и хмельным медом, и уже бояре, устав спорить, сникли, почуяв, что пора им и по домам. На дворе все так же мело, все так же выл ветер в дымниках, и уже совсем непроглядной чернотою гляделся размытый и смятый метелью простор Великой с чуть брезжившими вдали, по-за стенами, светлыми окошками псковских хором. Федор, выходя, рек:
– Пождем-ко Орды! До писанного на грамоту далеко! Хан и другояко порешить может!
– Худого б не створило ищо! – жестко примолвил Александр Морхинин. – Тяжка Орда, а и с Литвою беда! Не отдаем ли мы Русь Гедимину?
– Ладно, братцы! – устало заключил Иван, усаживаясь в седло. – Я вам, как на духу, а дале – никому!
– Вестимо! – отозвался Андрей, вышедший проводить приятелей.
Одного не сказал Иван Акинфов соратникам: что у него самого два дня назад побывал на дворе тайный посол Ивана Калиты. И другого не сказал, хотя ждал вопроса: примет ли их всех князь Иван и даст ли места в думе княжой? – что да, примет! И на почетные места! Но не спросили, и сам не возмог сказать. Как оно еще ся решит в Орде!
Глава 46
Жарынь! В улицах Москвы клубами горячая пыль. Парит. Дождя б и не нать, покос, а так охота на эту едкую, пропахшую дерьмом, гнилью, людским и конским потом серую мгу, запорошившую дома, заборы и листву дерев, веселого звонкого дождика! Пусть грязь, да воздохнуть полною грудью свежий, лесной дух из Заречья, увидеть промытые синью небеса, мокрые крыши в резных опушках, упруго трепещущие ветви яблонь и озорные глаза молодок, что, завернув подолы на головы, со звонким смехом бегут укрываться под навесы торговых рядов…
На порядком обмелевшей Москве стук вальков, бабы выколачивают портна. Вдали гомонит торг. Где-то бухают увесистые удары: загоняют новые сваи под причал. На въезде в улицу едва разминувши с мужицким, нелепо застрявшим поперек возом, Мишук рысью проминовал высокие частоколы сябров, кожевника и шерстобита, и у своих хором тяжело спешился, обрасывая росинки пота с чела и бороды, повел плечьми, чуя, как горячо налипла на спине волглая рубаха, пихнул заскрипевшие створы ворот, завел коня. Средний сын, Услюм, выбежал, подхватил повод.
– Никишка где? – недовольно обронил Мишук.
Старший нынче начал загуливать непутем. То приятели, то беседа, уже и девок высматривает, молокосос! А у дела возьмись, и нет! Отец… Ну, отец в ево годы тоже был не промах… А все ж Москва не Переслав, тут и разбойного народу довольно – попадет в иную ватагу… Надо приучать к службе молодца! Сыну Мишук уготовал свою судьбу: служить на дворе великого боярина Протасия, при Василье Протасьиче, в молодших. Сам с того начинал. Да о сю пору жалел молодца, все давал погулять, потешиться. А ныне… Он поглядел, как Услюм старательно заводит коня к коновязям, и, пригнувшись, полез в полутьму домовой клети.
Катюха едва глянула от печи. Явно чегось не так у нее, опять какая поруха в обрядне, пото и небрежничает! Дети загомонили разом. В избе от мух и жары было не продохнуть. Трехлетняя дочурка вывернулась сбоку. Мишук походя торнул ее за вихрастую головенку, и она тотчас побежала хвастать перед братишкой:
– А батя меня потрогал за волосы!
Младшие, двойняки, паренек с девочкой, ползали по полу, и тут тоже оба покатили под ноги отцу. Подняв паренька, Мишук сморщил нос:
– Обмыла бы хошь! – недовольно крякнул он.
– Я все про все одна! Хоть разорвись! На естолько ртов, да скотина, да кони! Никита бегат непутем! Ково тута обмывать, не знашь присести за полный день… – визгливо, переходя в крик, завела Катюха, и пошла, и пошла… Мишук только махнул рукой. При тетке Просе все жалилась, что та ей век заедает, а померла Просинья – и рук ни до чего не найдет!
– Девку бы взяла хошь какую… – не удержал он все же укора.
– Найдешь тута девок, на Москве… Однова и гляди за ней! – остывая, пробормотала Катерина. Быстро подхватив малого, обтерла ему мокрой тряпкой ноги и рожицу, от чего тот тотчас залился в рев.
Ополоснув руки и шею, Мишук крепко провел грубым рушником; не столь от теплой воды, сколь от льняного рушника, почуяв прохладу, вздохнул, перекрестил лоб и развалисто сел за стол. Катюха стала швырять из печи горшки, и уже маленькая Ксюша лезла ему на колени, а Сашок отпихивал ее, стараясь уместиться к отцу сам. Семеро по лавкам! Тут и не семеро, девять уже! Молодшие, парень с девкой, еще катаются по полу, а старшую дочь, гляди, скоро нать будет и замуж: двенадцатый год девке пошел!
Услюм зашел в избу, пристроился с краю стола.
– Никита где? – спросил Мишук.
– А где-та шастат! – живо отозвалась Катюха.
– Шастат… Не евши, не пивши… Ты мать, должна знатье иметь, где сын-та!
– А ты отец! – споро возразила Катюха и опять зачастила: – Уж такой лоб, где мне одной…
– Ну буде, буде! – оборвал Мишук. Придвинув глиняную мису – от огненных щей валил сытный пар, – он крупно отрезал ломоть хлеба, посолил. Ел молча, изредка срыгивая, вполуха выслушивая таратористую речь жены. Пахло потом, кожей, нечистыми детьми. От пойла, приготовленного поросенку, несло кислятиной.
– Хоша отволоки окошка-та! – вымолвил он, отваливая от щей.
– Мух налетит!
– Мух у тя в избе поболе, чем на улице!
Услюм кинулся отодвигать дощатые заволоки узеньких окошек. Молчалив и исполнителен. Работник растет. Меньшой, Селька (Селянином назвали), тот заботил. Оногды скажешь – будто и не слышит! Ну, може, вырастет, станет книгочий, яко дядя Грикша, по тому делу пойдет… Да Никита, Никишка, вот от кого днесь голова болит! Со старшим спасу нету уже и теперь. Придвигая горшок с черной кашей, Мишук проронил:
– Слух есть, поход ладят… На Двину. Черный бор собирать будто. Заместо новогородцев!
– Поедешь? – вскинулась и даже как-то прояснела голосом жена.
– Чево я там не видал! – недовольно возразил Мишук. Помолчав, прибавил: – Не. Покос у меня. Да и опосле, хошь… Вас тута вон больно много!
– С севера жемчугу бы привез! – разочарованно протянула Катюха.
Мишук глянул. Жена с последних двоён сильно раздалась вширь, ходила враскачку, маленькая, не ходила уже, а колобком каталась по избе… «Отбыло твое время, Катюха! – подумал он без злобы и жалости. – Ково нынче… Клуша-клушей. Только новгородцкого жемчугу тебе… Зады малым не подотрет!»
Он по-прежнему любил ее, любил ее привычно-податливое тело в постели, но нынче все чаще после любовных ласк подымалось в нем раздражение на жену, на ее неряшество, детскую незаботность, на вечное недуманье о том, что может случиться наперед. Пора бы и умнеть! Весь век в девках не пробегаешь!
– Наездилсе! – сказал он, невольно переходя на полузабытый новогородский говор.
– Сам же повторяшь, што тятя у тя всюю жисть ездил! – попеняла Катюха.
– Дак я у тяти один и вырос! Да и то чудом: Яшка, покойник, спас! Тут бы иной войны не было… – На недоуменные взгляды жены и Услюма (оба враз так и уставились на отца) Мишук, обтирая бороду и всовывая малому в рот кус хлебного мякиша, пояснил: – С Тверью! Ляксан Михалыч, слышь, ладит из Плескова к себе на стол… Тогды уж вси пойдем!
Поскреб в горшке, доедая кашу. Запил квасом. Уставать стал нонече. Али ко грозе? Жарынь!
– Покос, покос! – ворчала Катюха. – Служишь, служишь, а чево выслужил? Дюжину ртов с одной деревни кормишь!
– Службой и живу! – обиженно возразил Мишук. – Все сыты покамест! Вона: холопов привел!
– Холопи твои… Один там и вовсе, бают, нос задрал! Не деют ни лысого бесу! Никоторого тебе и покоса не будет!
Опешил Мишук, сперва не понял, подумалось грехом: так сболтнула. Но Катюха, твердо сев на лавку, глаза в глаза, ладом повторила злую весть, примолвив, что из деревни прислали, посельский Васюка Хромого приезжал, дак с им!
– Из двоих один, бают, работает, а второй, Офонька, блодит, не мое, грит, дело!
– Чего ж разом не сказала? – взъярился Мишук. – Чего молчала допрежь!
– А што, не поевши бы кинулси? – возразила Катюха, и на сей раз, кажись, была права. Мишук уже стоял, затягивая пояс.
Прорычал:
– Я ему покажу, чье то дело!
Выходя, уже с порога, повелел:
– Никишка пущай, коли сыщется, едет за мной, не стряпая!
Мельком подумалось: худо, что не отдохнул, не выстоялся конь… Помедлить? Но уже и с тревогою взглядывалось на немо и безжизненно громоздящиеся в вышине словно выцветшие облака – а ну как ежели дождь? В покос ить и своих молодцов не созовешь! Кажен косит ежели не на себя, дак на боярина. Протасию, ему сколь ни буди косцов, все мало, при таких-то стадах коневых! Одно спасение нынче – эти холопы, приведенные из Осечны… Ну, ежели и они подвели! Все еще не совсем верил Катюхе, не хотелось верить. Мало ли и сбрешут чего!
Выезжая из улиц, Мишук мимоходом приметил две новые клети, срубленные днями. Москва расстраивалась на глазах. Все новые амбары, хоромы, избы прибавлялись по-за Неглименью, множились кузни, шорные, валяльные, седельные, щитные мастерские… Минуя ремесленное окологородье, он невольно придержал дыхание – такой кислой вонью несло от кожевен. Но вот начались огороды, пыльные сады, и уже пахнул, освежив лицо и разом наполнив грудь, вольный дух полей. Вот и первая березовая роща. Конь пошел резвее, начались перелески, рощи. Однако жарко было и тут. Парило! И Мишук, изредка взглядывая в небо, на неживые сизые громады, утонувшие в жарком мареве клонящегося долу дня, погонял и погонял коня. За Сходней пришлось спешиться, покормить и напоить взмокшего Гнедого. Заночевал Мишук уже в Красном и, едва вздремнув, еще в потемнях, уже снова был в седле.
Солнце пробрызнуло жарким золотом, всклубив речные истринские туманы, и уже высоконько встало над лесом, и уже ушли последние пятна ночной сыри из-под дерев, когда наконец показались знакомые угодья. Конь был добрый у Мишука! Зимой возы с сеном отсюдова до Москвы преже полутора дней и не доправишь!
Подъезжая, он привстал в стременах и закусил губу. Там, где Мишук ждал увидеть островерхие сметанные копны (новое слово «стоги» еще не укрепилось на Москве), лежали только безобразные кучи свезенного сена, и – никого! Зверея, он подскакал к летовке, швырком откинул дверь. Оба холопа сидели за столом, хлебали ложками квас из самодельной долбленой тарели. Завидя гневного хозяина, утопили ложки, и первый, бледнея, торопливо промолвил:
– Я один не помечу, хозяин, мне-ко одному-то немочно…
– А я не желаю тута боле вершить! – перебил его второй. – Я медник, за меня выкуп должны дава…
Не поспел докончить. Мишук, вложив в удар всю силу скопившегося гнева, ринул кулаком прямо в наглые рыжие глаза. Холоп, слетев с лавки, шлепнулся о стену, вскочил и кинулся на Мишука. Свернули стол. Бурый квас с зелеными перьями лука потек по полу. Мишук сгреб холопа в охапку и ринул в дверь, но и сам, не устояв, выкатил следом. Второй холоп выскочил из дверей летовки с кичигой в руках, еще сам толком не понимая, к кому пристать. Мишук, мгновенно пожалев, что не дождал и не взял сына, вырвал кичигу у него из рук и, собрав в удар все и последние силы, огрел противника по голове. Кичига с треском переломилась. Медник пал под крыльцо. Мишук бешено глянул на второго – тот прянул в сторону. И тогда Мишук принялся обломком кичиги избивать вставшего на четвереньки противника. Тот уже не лез в драку, только прикрывал голову и лицо, бормоча что-то о правах и обельной грамоте.
– Права? – с хрипом выдохнул Мишук, приодержавшись (обельной грамоты на холопов у него, и верно, не было). – Я тя на рати ял! – прорычал Мишук. – На рати ял! – повторил он и, почти в визг: – Зарублю суку!
Взяв за ворот медника, он ударил его о стену и – прямо в лицо, в хлещущую кровь, в даве наглые, а теперь испуганные глаза… И бил уже лежавшего на земле, пинал сапогами, в беспамятстве повторяя:
– На рати, на рати ял!
Задышавшись, остоялся, и уже вовсе мелькнула мысль о ноже, рука сама стала шарить по поясу.
– Хозяин! – судорожно крикнул второй, остудив горячую Мишукову голову.
Подтянув медника к колодцу, Мишук черпнул и вылил полведра на избитого. Пнув, приказал:
– Вставай, падина!
Тот, закачавшись, поднялся на ноги.
– Лезай! – велел Мишук, подогнав холопа к начатому стогу. Тот полез на стог и упал. Мишук, натужась, сам закинул его на сено. – Топчи!
В две рогули стали подавать. Избитый медник плясал на стогу, утирая кровь с разбитого лица, нелепо взмахивая руками, но клал, кажется, толково, верно, работать-то умел.
К пабедью довершили первый стог. Подтащили сена и принялись за второй. Уже в багряных лучах снизившегося солнца, подоткнув обе копны порицами, пошли домой. Потянуло сырью, сено к ночи вбирало влагу. Ночью копны не вершат… У Мишука с отвычной работы дрожали ноги, руки тряслись. Ужинали молча.
– Ну, – угрюмо пообещал он, – хватит ночью дождем – убью!
Спать полегли вповалку, все трое в одном углу. Засыпая, Мишук сунул нож под себя. Подумал: прирежет во сне! Ну, так и нать старому дурню!
На заре его разбудил тоненький всхлип.
– Ты чего? – пробурчал он спросонья.
– Медник я, мастер! А ты… За меня должны хороший выкуп дать! Тебе ж, тебе ж бы… Може, уже и выкликали, а я тут, в нетях…
Мишук черпнул квасу, долго пил, обмысливая. Сказал, протянув кружку:
– Пей! Какой ты ни мастер, а коней морить мне не след! А коли выкуп пришлют, твоя удача! У нас на Москве те дела строго блюдут, и тебя не минует, не боись. – Подумал, прибавил: – Ладно. Вставай. День долог.
В этот день поставили втроем еще три стога. Мишуку не след бы доле и задерживать, да на кого бросишь? Впрочем, к вечеру прискакал Никита. Завидя еще издали знакомые вихры и разбойные светлые глаза сына, Мишук вздохнул с облегчением. Сын подскакал, с любопытством озрел всех троих, приметив разом и синяки на лице медника, и смущенный лик родителя. Присвистнул, легко соскочил с коня. Невысок, а уже и теперь видно: будет широк в плечах и ухватист. Ладный сын! Кабы еще и к делу прилежанье имел! Никита, хмыкнув, сообщил:
– Тятя! Василий Протасьич тебя кличет!
Мишук подумал, почесал в затылке. Сам боярин кличет, стало – скачи в ночь! Сказал-попросил:
– Побудь, Никиша, здеся, пока останние копны не поставят! Снедного привез ле?
– Матка хлеба да пирогов послала! И сыру, вот…
С сомнением выслушав дружные заверения всех троих, что копны смечут и без него, и наказав Никите не отлынивать от дела, Мишук порысил назад.
Гроза, прошлою ночью разразившаяся над Москвою, миновала Звенигород, то только и спасло Мишуково сено. Он порядком устал за эти два дня сумасшедшей работы и едва ли не впервой помыслил, что уже перевалило за пятьдесят и со женитьбою он много припоздал в свою пору: дети малы, а силы уже вот-вот и на исходе! Верно Катюха ворчит: с одной деревни, с одного мужика ни дочерей приданым наделить, ни сынов в люди вывести… Батя и то имел земли поболе моего! А девок нать пристраивать! И Никита нравный, гордый, смотрит, куда повыше попасть. Ну, Услюм… Дак и тому не в мужики ить подаваться! Добро отцово в скрыне да в земле Мишук сумел сохранить, кое-что и прикупил – прибавил к тому… Куплять землю? Коштовато! Да и не одюжить ноне ему земли…
Что-то сдвинулось в нем: убыль ли сил, близкая старость, смутная ли вина перед медником, коего избил он непутем. Нежданно возникла, как первое дуновение холодного ветра среди августовской горячей от зноя листвы, мысль: бросить все и пойти в монастырь. Далекая еще мысль! Детей поднять надо было прежде… И от монастыря, от детей перекинуло к походу на Двину, о коем упорно поговаривали на дворе у Протасия. Може, напроситься и мне? Поди, и с прибытком воротят!
Да, вот так! Сходить на Двину, пограбить! Он усмехнулся сумрачно. Устроить сына в службу. Выдать замуж хотя старших двух дочерей, и – прощай, Катюха! Тогда уж уходить в монастырь…
Глава 47
Жизнь в Радонеже идет своим чередом. Поправить на новом месте дела господарские, как хотелось и мнилось боярину Кириллу, так им и не удалось. Семья все больше опрощалась. Да и Тормосовы, приехавшие всем огромным родом своим, да и протопопов сын Георгий, и сам Онисим, некогда думный боярин ростовский, – все они стали тут, в Радонеже, простыми вотчинниками, рядовыми держателями земли, едва ли даже не черносошными мужиками… Все прочее зависело от рабочих рук, деловой сметки, въедливости в труде. Этими добродетелями, слава Господу, сыновья Кирилловы обижены не были. Трудились все, и по труду в доме был достаток и хлебный запас. Ежегодно подымали новые росчисти, выжигали пни, пахали, сеяли, жали. И отношения родичей стали сердечнее, проще. Охотно являлись на помочи, задушевнее пировали по праздникам.
…Вот хлопают двери. Вся облепленная снегом, румяная, сияющая, нежная в своем пуховом плате и шубейке, забегает Нюша, протопопова внучка, Анна Юрьевна, как вполшутя зовет ее по изотчеству Онисим. Ойкает, ласково и звонко произносит: «Хлеб-соль!» – и таратористо передает, с чем ее послали родители, сама озорными глазами оглядывая по очереди всех троих братьев, что сидят за столом, хлебают щи и, каждый по-своему – Стефан снисходительно, Петя радостно, а Варфоломей застенчиво, – невольно отвечают на ее улыбку. А то ввалится дядя Онисим с каким ни то известием о том, что происходит там, наверху, на Москве. Куда поехал великий князь, куда усланы рати, кого созывают нынче в Орду, к хану. Рассказывает, а никого все то уже и не трогает взаболь. Иные заботы у всех на уме: не вымерзло б яровое, не залило б покосов водой, да почем сало, говядина, кожи? Нынче, как вышла легота, приходит и дани давать, и на тот же ордынский выход опять собирать серебро!
Чередою проходят Рождество, Святки, Масляная, Пасха, Троица, с качелями и хороводами; пахота, сев, покос, жатва хлебов. А годы идут, и та самая протопопова внучка Нюша, что с озорными смешинками в глазах почасту забегала в Кириллов терем, уже превращается в невесту, начинает чиниться, не бегает вприпрыжку уже, а плавно выступает, трепетно опуская ресницы, и хорошеет день ото дня. Стефан начинает вдруг невесть с чего хмурить чело при Нюшиных приходах, безотчетно строжеть, а затем – тяжко и молча гневать на себя за что-то, непонятное Варфоломею. Старшие словно и не замечают ничего. Не замечает, не понимает ничего и Варфоломей. Он так сроднился, так сжился с их общим, как думалось ему, решением о пустынножительстве, что ничто мирское, казалось ему, уже не должно бы было коснуться ни его, ни тем паче брата Стефана. Прозрение приходит к нему нежданно, в один летний вечер, и потрясает Варфоломея до самой глубины естества, до тяжкого, неисходного отчаянья.
Он возвращался с корзиной из лесу. Низилось солнце. Уже багряные, схожие со старинным золотом столбы вечерних лучей, пробившись понизу сквозь мохнатый заплот могучих елей, легли на черничник и травы. Пламенно-темные стояли на закате стволы дерев. Варфоломей невольно замедлил шаги, следя тот миг, когда алые светы, багрец и черлень, угаснут и сиреневый холод, легчая, обоймет небеса и наполнит туманом кусты. На опушке, прямь заката, стояли двое, и Варфоломей не сразу узнал Стефана с Нюшею, а признав, остоялся растерянно и застыл.
Стефан стоял высокий, тонкий в закатном огне, непривычно неуверенный, круто склонив чело и судорожно комкая пальцами кожаные завязки плетеного пояса, а Нюша – в вечной позе всех любимых, чуть наклонившая голову, покорная и загадочно-недоступная, с цветком в рассеянных и чутких пальцах, слегка отклонив задумчивое лицо от закатных лучей, вся уже словно овеянная бархатною лиловою голубизною наступающей ночи.
Варфоломей глядел, выпустив корзину из рук, и не шевелился. В нем не пробудилось ревности (это чувство было еще и чуждо ему, подростку), но зато поднялась глубокая обида на брата, что предал то, высокое, о коем говорил сам и о коем он, Варфоломей, мыслит теперь самой глубиною души. Обида и горечь, горечь одиночества, захлестнули его, словно волною. Он отступил, еще отступил, стараясь не хрустнуть веткою, не выдать ничем своего невольного присутствия тем двоим, на закате. Отступил еще и еще и, поворотясь, пустился бежать стремглав прочь, в лесную глухомань, с ослепшими от слез глазами, не разбирая уже ни дороги, ни преград на пути…
Варфоломей бежал по лесу, и ветки хлестали его по лицу. Бежал отчаянно, надеясь хотя устать, но сильное сердце не давало одышливости, и чуть только он останавливался, застывал, внимая красному гаснущему пламени заката меж еловых стволов, как тотчас перед его мысленным взором вставали те двое: брат, с опущенной долу головою, и Нюша, в задумчивом ожидании, с забытым цветком в руке… И в нем вновь подымалось отчаяние на измену брата, и он опять пускался бежать через корни, коряги, кочки и водомоины, спотыкаясь, падая, обрывая рубаху и лицо о колючие ветви, сбивая пышные, с болотным запахом, папоротники, и с надрывным отчаянием чуял, что беда бежит вместе с ним, не отступая ни на шаг.
Смеркалось. Уже угасли последние потоки расплавленного дневного светила, уже мохнатые руки туманов поднялись из болот и глухо вдалеке ухнул филин, а он все бежал и шел, шатаясь от горя и усталости, и снова бежал, неведомо куда и зачем.
Наконец сами ноги привели его на высоту, на сухую горушку, и тут, упав в жесткий брусничник и белый мох, он затрясся, исходя звучными в ночной тишине одинокими рыданиями. Неведомо почему, безотчетно, русич, даже и так вот, чтобы упасть и завыть от горя, выберет место высокое, «красное», место из тех, которые исстари зовут «ярами» – в честь древнего славянского бога-солнца, Ярилы, выберет высоту и выйдет на высоту. Не память ли то о гористой прародине далеких пращуров, с которой, разойдясь широким разливом по равнинам Руси, все равно выбирали русичи для поклонения солнцу (и выбирали, и насыпали сами!) высокие крутые горушки, где и водили хороводы в Ярилину честь? И позже хороводы водили всегда на «горках», и любовь к высоте осталась, хотя и в том, что церкви Божии ставили на местах высоких, «красных», на холмах и крутоярах великих русских рек. Да и селились на высоте, предпочитая ходить вниз, к реке, за водою, лишь бы оку была открыта неоглядная ширь земли и небес.
На таком вот пригорке, с коего, верно, открывалась днем замкнутая чередою лесов уединенная долина, а теперь лишь сквозистая тьма облегала окрест, и лежал Варфоломей, затихая в рыданиях, лежал и думал, успокаиваясь понемногу и начиная смутно понимать, что потеряно далеко не все, что измена брата еще ничего не изменила в его, Варфоломеевой, судьбе, и от мыслей о Стефане он, невестимо, перешел к тому, чей великий пример всегда и во всем предстоит мысленным очам христианина.
Иисус ведь был, хотя и сын Божий, в земном бытии своем такой же, как и все, человек. И, как человек, сомневался в назначении своем, страдал, мучался (и молил даже: «Да минет меня чаша сия!» – в последнюю ночь). Что же, значит, и всякий смертный может повторить путь Спасителя от начала и до крестного конца? Может и, значит, должен? И вот зачем и почему Христос и вочеловечился, родился, страдал, молил и погиб на кресте! И поэтому – можно! Он даже приподнял голову, ослепленный вспыхнувшею мыслью, безотчетно вперяясь в окрестный мрак. Можно и должно! Быть равным Христу – это не гордыня, а требование Божие! Быть равным Господу! В трудах, в скорбях (не в чудесах, конечно! То уже была бы гордыня!), в повторении, вечном, как таинство святого причастия, в вечном повторении крестного пути!
Теперь он увидел и широту ночного окоема, и игольчатую бахрому лесов на закатной, охристо-желтой полосе и поразился тому, как близко увиденное сейчас к тому, что не пораз снилось ему ночами. Вот в такой же лесной пустыне, на таком же холме! И пусть Стефан… только поможет ему… Пусть он будет для него, Варфоломея, словно Иоанн Предтеча. А Нюшу он полюбит. Должен полюбить, раз ее любит Стефан. Она ведь не виновата ни в чем!
Снова прокричало в отдалении. Сизые руки туманов тянулись уже к вершинам елей, и бледно-желтое мертвенное сияние осеребрило вершины. Всходила луна.
- Остров Крым. В поисках жанра. Золотая наша Железка
- Русь Великая
- Конь Рыжий
- Хмель
- Черный тополь
- Москва – Петушки. С комментариями Эдуарда Власова
- Щит и меч
- Гардемарины, вперед!
- Суер-Выер и много чего ещё
- Противостояние. Романы
- Самый счастливый день
- Лошади с крыльями
- На берегах Невы. На берегах Сены. На берегах Леты
- Перед зеркалом. Двойной портрет. Наука расставаний
- Переизбранное
- Донские рассказы. Судьба человека. Они сражались за Родину
- Господа офицеры
- Белеет парус одинокий. Тетралогия
- Вечный зов
- Тени исчезают в полдень
- Прощание с Матерой
- А зори здесь тихие…
- Заповедник и другие истории
- Генерал и его армия. Лучшие произведения в одном томе
- Компромисс. Иностранка. Чемодан. Наши
- Открытая книга
- Место встречи изменить нельзя. Гонки по вертикали
- Белые одежды. Не хлебом единым
- Елисейские Поля
- Московская сага
- Школа для дураков. Между собакой и волком. Палисандрия. Эссе. Триптих
- Амур-батюшка. Золотая лихорадка
- Повесть о жизни
- Ложится мгла на старые ступени
- Чучело. Игра мотыльков. Последний парад
- Кладовая солнца. Повести, рассказы
- Трактир на Пятницкой. Агония. Вариант «Омега»
- Доживем до понедельника. Ключ без права передачи
- Сын Зевса. В глуби веков. Герой Саламина
- Жестокий век
- Русь изначальная
- Повести древних лет. Хроники IX века в четырех книгах, одиннадцати частях
- Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород. Петербургские повести
- Очарованный странник. Леди Макбет Мценского уезда: роман, повести, рассказы
- В окопах Сталинграда
- Цыган
- Семьдесят два градуса ниже нуля
- Тропою испытаний. Смерть меня подождет
- Разрыв-трава. Не поле перейти
- Петля и камень в зеленой траве. Евангелие от палача
- Выстрел в спину. Обречен на победу
- Государи Московские: Младший сын. Великий стол
- Отцы и дети. Дворянское гнездо. Записки охотника
- Антоновские яблоки. Жизнь Арсеньева
- Государи Московские: Бремя власти. Симеон Гордый
- Темные аллеи. Окаянные дни
- Горячий снег. Батальоны просят огня. Последние залпы. Юность командиров