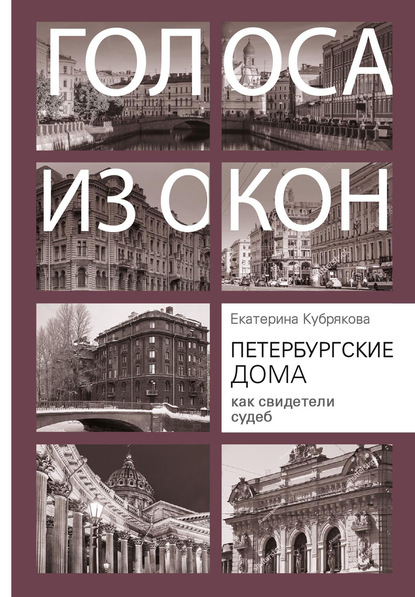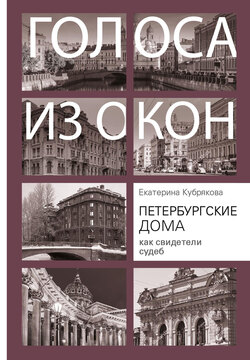
000
ОтложитьЧитал
Дом товарищества для устройства постоянных квартир
(1911 г., архитектор А.И. Зазерский; Большая Посадская ул., 1)
«…Смуглая, живая, очень энергичная, но ничего в ней нет колючего, столь обычного у смуглых, живых и энергичных женщин. И не умничает, как все они… Кошеверова пленительно гостеприимна, что тоже редкий талант…
Она была замужем за Акимовым. У него на углу Большой и Малой Посадской мы и познакомились. Подниматься надо было до неправдоподобности высоко, казалось, что ты ошибся и карабкаешься уже к чердаку по лестнице, бывшей черной, узкой и крутой. Послала судьба Акимовым квартиру большую, но нескладную. Попадал ты в кухню, просторы которой, ненужные и сумеречные, не могли быть освоены. Оттуда попадал ты в коридор, с дверями в другие комнаты, а из коридора – подумать только – в ванную. А из ванной в комнату самого Акимова, такую же большую, как кухня, выходящую окнами, расположенными полукругом, на ту широкую, расширяющуюся раструбом часть Малой Посадской, что выходит на Кировский проспект. Подобная квартира с ванной, разрезающей ее пополам, могла образоваться только в силу многих исторических потрясений и множества делений, вызванных необходимостью. Где живет хозяйка квартиры и кто она, узнал я не сразу…

Большая Посадская улица, 1
У Акимова бывал я… семь лет. И только через два года он познакомил меня с черной, смуглой, несколько нескладной, шагающей по-мужски Надеждой Николаевной, ассистенткой Козинцева. Говорила она баском, курила и при первом знакомстве не произвела на меня никакого впечатления. В дальнейшем же мне показалось, что она хороший парень. Именно так. Надежный, славный парень при всей своей коренастой, дамской и вместе длинноногой фигуре. Вскоре с Акимовым они разошлись. Вышла она за Москвина, и родился у нее Коля. И он успел вырасти и превратиться в очень хорошенького восьмилетнего мальчика, когда завязалось у меня с Надеждой Николаевной настоящее знакомство, непосредственно с ней – она ставила мою „Золушку“, а не Акимов»[9].
Именно в этот нескладный, изрезанный коммунальными переделками дом в 1930-х приносил свои пьесы 34-летний писатель Евгений Шварц молодому 29-летнему театральному режиссеру Николаю Акимову.
Свою жену Надежду, работавшую ассистенткой режиссера на находящемся через дорогу «Ленфильме», Акимов представлять коллегам не торопился. Жизни обитателей ломаных коридоров этого дома в то время были не менее запутанными, чем их квартирный лабиринт. Николай начинал руководить Театром комедии (который ныне носит его имя), влюбился в 24-летнюю актрису Елену Юнгер, родившую ему дочь. Это событие совпало со съемками фильма «Юность Максима», по окончании которых работавшая над ним 32-летняя Надежда вышла замуж за коллегу-оператора и в том же году родила сына.
Семейный разлад молодых постановщиков не означал, однако, разлада профессионального. После войны Шварц снова принесет свою очередную пьесу бывшим супругам – Кошеверова станет режиссером, Акимов – художником по костюмам, а в актерский состав наряду с Раневской и Жеймо попадет и Елена Юнгер. Фильм «Золушка» станет легендарным и, колоризированный, будет идти в кинотеатрах и в XXI веке.
Сейчас же на огромный дом, где в этих окнах углового полукруга все еще работают над пьесами Шварц и Акимов, надвигается война. Деятели искусства будут эвакуированы и покинут свои нескладные квартиры – старожилом в доме останется живший здесь 20 лет со времени постройки и вернувшийся к войне 63-летний Алексей Зазерский, его архитектор, когда-то видевший теперешние лабиринты коридоров удобными и идеально продуманными, какими он проектировал их 30 лет назад.
В 1909 году молодой зодчий реализовал концепцию кооперативного дома. Большинство горожан дорого и невыгодно снимали жилье, Зазерский же основал товарищество, позволявшее оплатить половину стоимости квартиры и на собранные взносы пайщиков начать строить дом. Дома – самые современные: в этом, например, были механизированные прачечные с сушилками, отопление и горячий водопровод, вентиляция и централизованные пылевсасывающие устройства. Зазерский ратовал за просторные планировки – до национализации в этом доме располагалось всего 20 квартир, по 6–9 комнат в каждой. Много лет архитектор прожил в своем творении, а блокадной зимой 1942 года вышел отсюда и не вернулся, пропал без вести.
Литература
Акимов Николай Павлович // БСЭ. Т. 1.
Акимов, Николай Павлович // Театральная энциклопедия / под ред. С.С. Мокульского. М., 1961.
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга… СПб., 1996.
Боровков В. Надежда Кошеверова // 20 режиссерских биографий / сост. Р. Д. Черненко. – М.: Искусство, 1978.
Весь Петербург. 1912–1930 гг.
Весь Ленинград. 1931–1934 гг.
Зодчие Санкт-Петербурга. СПб., 1998.
Шварц Е.Л. Позвонки минувших дней. М., 2008.
Юнгер Е. Все это было… М., 1990.
Доходный дом Погодина
(нач XIX в.; ул. Союза Печатников, 5)
«Я проснулся за час перед полднем… Подхожу к окошку и вижу быстрый проток; волны пришибают к возвышенным тротуарам; скоро их захлестнуло; еще несколько минут – и черные пристенные столбики исчезли в грозной новорожденной реке. Она посекундно прибывала. Я закричал, чтобы выносили что понужнее в верхние жилья (это было на Торговой, в доме В.В. Погодина). Люди, несмотря на очевидную опасность, полагали, что до нас нескоро дойдет; бегаю, распоряжаюсь – и вот уже из-под полу выступают ручьи, в одно мгновение все мои комнаты потоплены; вынесли, что могли, в приспешную, которая на полтора аршина выше остальных покоев; еще полчаса – и туда воды со всех сторон нахлынули, люди с частию вещей перебрались на чердак, сам я нашел убежище во 2-м ярусе, у N. П. – Его спокойствие меня не обмануло: отцу семейства не хотелось показать домашним, чего надлежало страшиться от свирепой, беспощадной стихии. В окна вид ужасный: где за час пролегала оживленная, проезжая улица, катились ярые волны с ревом и с пеною…

Улица Союза Печатников, 5
Между тем в людях мертвое молчание; конопать и двойные рамы не допускают слышать дальних отголосков, а вблизи ни одного звука человеческого… лошадь с дрожками долго боролась со смертию, наконец уступила напору и увлечена была из виду вон; потом поплыли беспрерывно связи, отломки от строений, дрова, бревна и доски – от судов ли разбитых, от домов ли разрушенных, различить было невозможно. Вид стеснен был противустоящими домами; я через смежную квартиру П. побежал и взобрался под самую кровлю, раскрыл все слуховые окна. Ветер сильнейший, и в панораме пространное зрелище бедствий… Гибнущих людей я не видал, но, сошедши несколько ступеней, узнал, что пятнадцать детей, цепляясь, перелезли по кровлям и еще не опрокинутым загородам, спаслись в людскую, к хозяину дома, в форточку, также одна [девушка], которая на этот раз одарена была необыкновенною упругостию членов. Все это осиротело. Где отцы их, матери!!! Возвратясь в залу к С., я уже нашел, по сравнению с прежним наблюдением, что вода нижние этажи иные совершенно залила, а в других поднялась до вторых косяков 3-х стекольных больших окончин, вообще до 4-х аршин[10] уличной поверхности. Был третий час пополудни…»[11].
Именно здесь, в доме Погодина, 29-летнего Александра Грибоедова застало печально известное наводнение 1824 года – самое разрушительное за всю историю Петербурга, которое вскоре Пушкин обессмертит в «Медном всаднике»:
Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна. Челны
С разбега стекла бьют кормой.
Лотки под мокрой пеленой,
Обломки хижин, бревны, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бледной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гроба с размытого кладбища
Плывут по улицам!
Народ
Зрит божий гнев и казни ждет[12].
Грибоедов, временно оставивший дипломатическую карьеру в Грузии, приехал в Петербург полгода назад и после пары месяцев пребывания в гостинице предложил своему 22-летнему родственнику и другу Александру Одоевскому разделить с ним квартиру в этом доме.
Писатель и его «питомец», как, любя, называл он молодого поэта, прожили здесь три месяца, до ноября, – именно тогда и застало их здесь наводнение, не позволившее далее оставаться в квартире (мороз, ударивший на следующий день после потопа, сделал затопленные первые этажи непригодными для ремонта до самой весны).
Здание в то время было двухэтажным – верхний этаж занимала семья 34-летнего хозяина дома, сенатора Василия Погодина. Именно он сохранял невозмутимое спокойствие во время наводнения, не желая пугать родню и жильцов. Первый же этаж сдавался, и Грибоедов был самым известным его арендатором. «Горе от ума» уже дописано и, хотя пока не опубликовано, литературный мир уже вовсю обсуждал новую комедию, которую автор охотно читал в том числе и на этой квартире, разрешая гостям переписывать текст. Вероятно, и хозяин дома захаживал к популярным жильцам – всех троих объединяли идеи декабристов, за которые совсем скоро двоим из них придется поплатиться: Грибоедова ждет недолгий арест, а Одоевского – каторга. Погодин же проживет в этом доме до самой старости.
Современный вид здание приобретет в 1894 году, когда купец Иван Балуев с 36-летней женой Верой украсят надстроенный третьим этажом дом своим инициалом «Б», сохранившимся до сих пор.
Совсем скоро после переезда Вера станет вдовой и единоличной хозяйкой не только дома, но и всего семейного бизнеса – в соседнем доме № 3 она будет управлять чайным магазином, а сюда, на первый этаж своего собственного дома, Вера станет спускаться в винный погреб и во фруктовую и молочную лавку, окна которых, несмотря на прошедшие 70 лет и перестройку дома, все еще сохранились в тех же стенах, в тех же проемах, через которые когда-то наблюдал за стихией Грибоедов. Да и сейчас, спустя 200 лет, они все еще помнят день 7 ноября 1824 года.
Литература
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга… СПб., 1996.
Грибоедов А.С. Частные случаи петербургского наводнения // Соч.: в 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1971.
Декабристы: биографический справочник / под ред. М.В. Нечкиной. М., 1988.
Малькова Н. «На знакомом острову…». Пушкинские места на Васильевском острове. СПб., 2017.
Одоевский А.И. Полн. собр. стихотворений. 2-е изд. Л., 1958.
Погодин В.В. // РБС. Т. XIV: Плавильщиков-Примо. СПб., 1905.
Пушкин А.С. Медный всадник. Л.: Наука, 1978. (Литературные памятники).
Скабичевский А.М. Александр Грибоедов. Его жизнь и литературная деятельность. Киев: Мультимедийное изд-во Стрельбицкого, 2018.
Справочная книга о купцах С.-Петербурга на 1896 г. СПб., 1896.
Шустов А.С. Санкт-Петербургское купечество и торгово-промышленные предприятия города С.-Петербурга к 200-летнему юбилею столицы: Ил. альманах. 1903.
Яцевич А.Г. «Пушкинский Петербург», Пушкинское общество. Л., 1935.
Доходный дом графини Толстой
(1900 г., архитектор А.С. Хренов; Потемкинская ул., 11 / Фурштатская ул., 47–49)
«В мои два года она подарила мне концертный рояль, стоявший в великолепной гостиной Людовика XV. В три года – бриллианты, которых я не увидела, так как моя мать их вскоре прожила. Но когда мне исполнилось четыре, в 1905 году, бабушка Прасковья Петровна умерла.
Я хорошо помню эту маленькую, древнюю старушку, с букольками на совсем седой, белой головке, к которой меня приводили по утрам, когда она у себя в спальне, в пеньюаре, окруженная приживалками, как Пиковая Дама, пила кофе из большой фарфоровой чашки. Помню ее большую квартиру на Потемкинской улице, напротив Таврического сада, холодный мрамор подоконников, большие зеркальные стекла окон, сверкающий блеском паркет. Помню гостиную, золоченую, с гобеленовыми подушками мебель и гобелены на стенах. Столовую с огромным обеденным столом, под которым, на ковре, постоянно лежал сенбернар – я очень любила лежать с ним в обнимку, и нашу детскую, где спали три девочки: моя старшая сестра, средняя и я, младшая.

Потемкинская улица, 11 / Фурштатская улица, 47–49
По воскресеньям за ширмой помещался брат Митя, приходивший в отпуск из кадетского корпуса. Помню гувернантку, которую держала для нас Прасковья Петровна. Она была русская, но французский язык знала безупречно и дала нам правильное произношение.
Шла Русско-японская война, нарастали события революции 1905 года, а за зеркальными окнами квартиры Прасковья Петровна Жандр жила скорее в XIX веке, чем в ХХ.
Днем меня выводили в Таврический сад, на прогулку, вечером, если у Прасковьи Петровны были гости, в гостиную. Нарядную, в белом платьице с бантами на плечах и большим бантом в кудрявых волосах, меня учили приседать и делать реверансы старым дамам, приходившим в гости. В легких башмачках я скользила по блестящему паркету и склонялась чуть не до пола перед каждой гостьей, а старухи рассматривали меня в лорнеты. Изредка одна из них цедила сквозь зубы: „Прелестна, очаровательна, какая милая крошка“. Тогда моя мать краснела от удовольствия, а крестная ласково улыбалась»[13].
В окна этого дома из квартиры № 11 смотрела в 1900 году на Таврический сад буколическая старушка Прасковья Жандр, встретившая свой девятый десяток под смех четырех малышей, которых она как крестная взяла к себе вместе с матерью, попавшей в стесненные обстоятельства из-за болезни мужа, отправленного в сумасшедший дом.
Прасковья Петровна не была аристократкой, как можно предположить из описания ее быта. Она – дочь прачки, которой еще в 1820-х посчастливилось попасть воспитанницей в дом литераторов Варвары Миклашевич и Андрея Жандра. Так и не женившись, они 20 лет прожили в глубокой платонической любви.
Добрая и умная Параша очаровала свою покровительницу и весь дружеский круг Жандров, куда входили Грибоедов и Одоевский, а затем и Пушкин. Варвара была значительно старше Андрея, а Прасковье и вовсе годилась в бабушки. Предчувствуя кончину, она попросила 45-летнего Андрея жениться на бедной 16-летней девушке. Эта история дошла даже до романиста Валентина Пикуля: «Меня скоро не станет, Андрюша, так вот тебе жена будет верная и молодая. Не дури! Осчастливь Парашу и будь сам счастлив с нею»[14]. В этом браке родилось четверо детей, а Прасковья заняла достойное место хозяйки дома, открыв, как и Варвара, литературный салон и ни в чем не уступая светским дамам своего времени.
В этот дом напротив Таврического сада Прасковья въехала уже старушкой и вдовой. Графиня Надежда Толстая (урожд. Волконская) к 1900 году владела в Петербурге несколькими доходными домами и, узнав, что хозяйка мелочной лавки продает два участка на углу такого привлекательного места, приобрела их для постройки престижного 5-этажного доходного дома, законченного всего за год и дошедшего до нас почти без изменений. Здесь и поселилась с крестниками, слугами и приживалками 80-летняя Прасковья. Сама хозяйка здания, графиня Толстая, тоже успела недолго пожить здесь перед эмиграцией в 1917 году, когда дом, как тонущий корабль, спешно оставили все его состоятельные жильцы. Прасковье Жандр посчастливилось прожить долгую жизнь в своем привычном XIX веке и не застать потрясений века ХХ, когда дом национализировали, а квартиру, где она провела мирную и веселую старость, поделили на несколько коммуналок.
Литература
Адресная книга города С.-Петербурга на [1892–1902] год / Гор. обществ. упр. под ред. П.О. Яблонского. Ежегод. изд. СПб.
Б. М. [Модзалевский Б. Л.] Жандр, Андрей Андреевич // РБС. Т. VII. СПб., 1916.
Барсова Н. Дневники // Семейный архив. (Рукописные дневники Нины Барсовой, крестницы Прасковьи Жандр, безвозмездно предоставлены хранящими их потомками.)
Весь Петербург. 1901 г. Весь Петроград. 1917 г.
Пикуль В.С. Через тернии – к звездам: исторические миниатюры. М., 2010.
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. СПб., 1887.
- Зазеркалье Петербурга. Путешествие в историю
- Петербургские дома как свидетели судеб