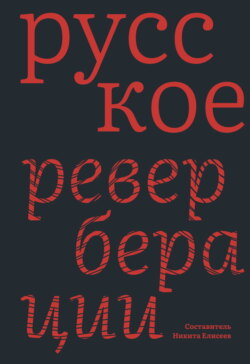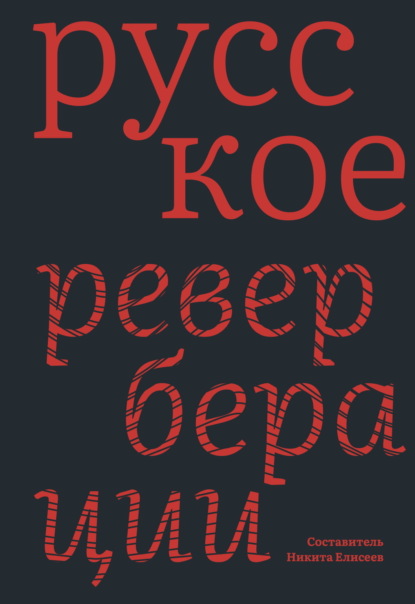Лейтенанта Зотова ничего не останавливает. Разве что немного притормаживает личная симпатия к несчастному пожилому интеллигенту-окруженцу. Его вышибает всего одно слово: «Царицын» вместо «Сталинград». И не одна социальная дезориентация поколения Солженицына, Павла Когана, Бориса Слуцкого, Михаила Кульчицкого, Давида Самойлова тому виной. Тому виной обстановка, в которую попал лейтенант Зотов. Он ведь постоянно на грани нервного срыва. Он тяжело работает, недосыпает, он окружен бестолковщиной, воровством, постоянными ЧП, он знает, что оккупанты уже готовы к штурму столицы его родины – как тут не превысить меру бдительности?
Вернемся к «Групповому портрету…». Молодой русский эмигрант находится совсем не в таком положении, как лейтенант Зотов. Война идет далеко. Он знает о ней, но в ней не живет. Тем не менее и он, заподозрив господина Шу в шпионаже в пользу (фактически уже разгромленной) Германии, готов написать донос в компетентные органы. Если бы дело происходило не во время войны, а после нее – попросились бы пальцы молодого антифашистского эмигранта к перу, а перо к бумаге? Нет, конечно. Выслушал бы чушь про освободителей Европы – нацистов, пожал бы плечами и ушел домой.
А теперь продолжим ситуацию, продлим ее, домыслим… Что было бы, если бы повествователь «Группового портрета…» был бы потемпераментнее? Написал бы донос в ФБР и отослал? Да ничего бы не было. Вызвали бы господина Шу (если бы нашли), поговорили, вздохнули: «Ну что ж… есть и такое мнение…» И господин Шу спокойно бы пошел дальше беседовать про освобождение Европы от жидов и большевиков немецкой армией.
Что было бы, если бы в той организации, куда сдал заподозренного им в шпионаже пожилого интеллигента лейтенант, работали люди вроде фэбээровцев? Ничего бы не было. Не склеили бы дело из ничего, не погубили бы невинного человека, не взвалили бы греха на душу другому человеку. Выяснили бы обстоятельства оговорки, усмехнулись бы, посоветовали бы Зотову высыпаться – и все. А не с людоедской ухмылочкой: «У нас брака не бывает…» Такое вот эхо под девизом: «Почему Россия не Америка?»
Война и литература
«Из памяти изгрызли годы, за что и кто в Хотине пал, но первый звук хотинской оды, нам первым звуком жизни стал». Хошь не-хошь, а война крепко-накрепко связана с литературой России. «Разрыв-травой, травою повиликой мы прорастем по горькой, по великой, по нашей кровью политой земле», не дойдя до Ганга, погибнув на речке Шпрее, потому что «война – совсем не фейерверк, а очень трудная работа, когда черна от пота вверх ползет по пахоте пехота», поэтому не стоит верить пехоте, когда она «бодрые песни поет», а вот когда песни отчаянные, мрачные, безнадежные – вот таким песням стоит верить. Так им и верят, и верили. Или не хотят верить.
Почему так рассердились на Льва Толстого ветераны Отечественной войны 1812 года? В основном генералы и один ветеран-ополченец, Петр Вяземский? У Петра Вяземского – личная причина. Кто этот Пьер (Петр) Безухов, в очках и цилиндре нелепо и бестолково мечущийся на поле Бородина? Не очкарик ли Петр Вяземский? Обидно. Но генералы выигранной войны рассердились на поручика-артиллериста войны проигранной (Крымской) не только потому, что пусть и поручик, но профессиональный военный убедительно доказывает: войну выиграли не генералы, а солдаты. Генералы были бездарны и заваливали противника трупами, а солдаты безропотно этими трупами валились, слой за слоем.
Не только потому, но еще и потому, что Лев Толстой изобразил войну как бессмысленное, жестокое, отвратительное, аномальное дело. Человекоубийство во всей его отвратительной красе. Надо признать, что не все он изобразил. Не все узнал про войну 1812 года, хотя старался узнать все, даже девичьи дневники тогдашних уездных барышень читал. Однодворец Сергей Суворин, например, ветеран 1812 года, своему сыну, будущему знаменитому журналисту России Алексею Суворину, такую картину в цветах и красках запечатлел. По полю, усеянному ранеными, убитыми, едет телега, в телегу валят окровавленных людей, слой за слоем. Когда телега наполнится всклянь, везут эту человечью груду, стонущую, вопящую, кровью истекающую, к медпункту. Там разгружают. Тех, кто уцелел после этой транспортировки, – в одну сторону, тех, кто нет (кого – нет, кто – мертв), – в другую. Сергей Суворин был в самом низу телеги, кровь сверху текла на него, он задыхался, но… уцелел. Даже сыну спустя много лет рассказал. А сын записал. В дневник. Если бы он такое тогда (в 1907 году) опубликовал, личная дружба с руководителями министерств и ведомств не помогла бы…
От величальных барабанных од Державина и Ломоносова к толстовскому пониманию того, что есть этот «не фейерверк, а очень трудная работа» – естественный, следует признать, путь. На этом пути крупная веха – «Четыре дня» Всеволода Гаршина, добровольца Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Крупная уже хотя бы потому, что это ведь рассказ будущего, рассказ из литературы «потерянного поколения», Хемингуэя, Олдингтона, Ремарка. Фронтовиков, добровольцев Первой мировой. Это они стали описывать войну как бесконечный жестокий ужас, о котором штатные пропагандисты не то что не подозревают, знать не хотят.
Сама ситуация рассказа, тот сюжетный (а равно и символический) стержень, на котором рассказ держится, оттуда, из литературы будущего. Тяжелораненый солдат оказывается рядом с трупом убитого им врага. Этот убитый им враг его спасает, потому что раненый вытаскивает у убитого флягу, вода из фляги держит раненого все четыре дня, покуда его не найдут свои. Свои? А этот убитый им человек – чужой? Вроде чужой, не сват, не брат, неграмотный египетский феллах, забрили в армию, отправили спасать Османскую империю на Балканы. Ну а вокруг рядового Иванова, интеллигента-добровольца, который лежит рядом с убитым им человеком, не такие же неграмотные крестьяне, которых также забрили и отправили на Балканы освобождать братьев-славян от турецкого ига?
Ладно, турецкий султан – дикий восточный правитель, но неужто у образованных профессиональных политиков нет никаких методов помочь угнетенным славянам Балкан, кроме вот этого средства: штыком в сердце, осколками снаряда по ногам? Штатные пропагандисты по поводу этого рассказа Гаршина взвоют: мол, пацифистский бред. Вой их не слишком убедителен, потому что Гаршин воевал, а они – нет.
Собственно, то, что сформулировано Гаршиным во всех его балканских военных рассказах, а в «Четырех днях» в особенности, после Первой мировой стало общим местом цивилизованной политики: только не война. Война – не продолжение политики другими средствами, а нарушение политики, антиполитика, катастрофа, из которой так просто не выбраться. Немало для того, чтобы это общее место стало общим местом, сделали писатели «потерянного поколения» в 20–30-х годах ХХ века.
Нельзя сказать (или написать), чтобы эта толстовско-гаршинская тема (война – безумие, нарушение хода естественной человеческой жизни, не решение проблем, а создание новых и не враз решаемых проблем) в русской литературе заглохла. Напротив, она мощным эхом отозвалась в России как раз тогда, когда начали писать литераторы «потерянного поколения» после Первой мировой (в России еще и Гражданской).
Антивоенная составляющая ранней советской литературы была весьма сильна, от «Ратных подвигов простаков» Андрея Новикова до «Варшавы» Михаила Слонимского с его безумным корнетом-убийцей («Ранен, контужен и за действия свои не отвечаю») и «Гала-Петера» Бориса Лавренева с жирующим на военных поставках Жоржем Арнольдовичем и несчастным фронтовиком, погибающим не пойми за что.
Потом эта составляющая была вышиблена напрочь милитаризмом победы в Гражданской, гумилевщиной Тихонова и Багрицкого: «Та страна, что могла бы стать раем, стала логовищем огня. Мы четвертый день наступаем. Мы не ели четыре дня!» – «Он расскажет своей невесте о красивой лихой игре, как громил он дома предместий с бронепоездных батарей, как вагоны и водокачки умирали в красном дыму, как пленительные полячки присылали письма ему!» – вот это все… под лозунгом: «Можем повторить», а значит, хочется повторить…
Нельзя сказать, чтобы на Западе таких писателей не было. Да сколько угодно – один Эрнст Юнгер («В стальных грозах») чего стоит. Но не они оказались мейнстримом. А поначалу, в 20-х годах, порой и Гражданская война описывалась как безумие, зачеркивающее, уничтожающее самое главное, что есть на Земле – жизнь живого существа. О чем, собственно, и написан рассказ Евгения Замятина: «Рассказ о самом главном».
По вполне понятным причинам ни «Варшава» Слонимского, ни «Гала-Петер» Бориса Лавренева, ни «Рассказ о самом главном» Замятина мейнстримом не оказались. Слонимский и Лавренев сделались добротными советскими писателями, классиками… второго ряда, Замятин и вовсе был вышиблен из советской литературы. Умер в Париже в 37-м. С советским, впрочем, паспортом, но это уже другая история.
Сюжет. Александр Иванов / Даниил Хармс
Как писывал во время оно протопоп Аввакум: «Возвратимся паки на первую беседу, отнюду же изыдохом». К истоку новеллы. К появлению нового читателя. Горожанина, образованного занятого человека, у которого времени нет на длиннющие романы, где главное – не сюжет, не фабула, а психология. Что, помимо краткости (по сравнению с романными длиннотами), соблазнит такого читателя? Сюжет, фабула. Если будет сюжет, то, пожалуй, и толстенного «Монте-Кристо» проглотить можно будет.
Так вот с сюжетом-то у русских писателей была беда. Пути пройденного у нас никто не отберет. Плести сюжет русские писатели очень долго не умели. Не в той традиции были сформированы. Точность психологических характеристик? Пожалуйста. Пейзажи, которые не нарисованы красками, а описаны словами, а вот всё одно зримы. Сколько угодно. Душевные состояния, вплоть до безумия, – рука набита. Живая речь персонажей от крестьянского говора до городского жаргона, от областных диалектов до светской беседы? Имеется. Но придумать неожиданный сюжетный поворот до начала ХХ века, до появления совсем нового читателя и совсем новых писателей – пожалуй что нет… За исключением… Лескова. Но Лесков и сам по себе исключение. Повторимся, недаром он был так заинтересован американской остросюжетной литературой: Брет Гартом и Майн Ридом.
Сюжетная слабость русских писателей проверяется на шедевре русской классической литературы поэме в прозе Гоголя «Мертвые души», на ее первом томе и фрагментах второго. Историк и драматург Михаил Погодин, узнавший себя в Собакевиче, верно определил композиционную слабость этого текста. В сущности, пошутил он, перед читателем длинный коридор с комнатами. В одной комнате – один помещик, зашли, осмотрелись, поговорили, пошли дальше (лирическое отступление), следующая комната и так далее.
Между тем идейно Гоголь придумал все очень хорошо. В первом томе – «мертвые души», среди которых фермент брожения, да, жулик, да, прохиндей, но… делец, деятель Чичиков. Во втором томе появляются те, кого воскресить можно, и Чичиков постепенно преображается, чтобы третий том стал апофеозом: мертвые души становятся живыми! Чичиков из прохиндея и жулика делается рачительным хозяином, эффективным менеджером. Как это сделать, Гоголь не знал.
Между тем один раз сам текст подсказал, как это могло быть сделано. Ни Брет Гарт, ни Майн Рид, а уж тем более О’Генри мимо этой подсказки не проскочил бы. А Гоголь проскочил, не заметил, хотя сам написал. Собакевич в число мертвых мужских душ, которые Чичиков может заложить и получить за них деньги, вписывает Елисаветъ Воробей, с твердым знаком в конце имени, чтобы он не сразу понял, что это – женщина, и денег он за нее не получит, а Собакевичу – прибыток. Мы так и не узнаем, кто она, живая, мертвая? Почему помещик захотел (если она живая) избавиться от нее и сбагрить Чичикову. Шалава? Оторва? Кликуша? Парализованная старуха? Неизвестно. А может, просто – померла… Но это был ход… Помещики под видом «мертвых душ» начинают сбывать Чичикову сор общины: хулиганье, сумасшедших, очень старых, неумелых, ленивцев, пьяниц, неизлечимо больных. В одно непрекрасное утро Чичиков видит у своей гостиницы команду ух… «Здравствуй, батюшка-барин! Ты наш новый хозяин…» И вот из этого-то сора, выметенного помещиками из своих вотчин, Павел Иванович Чичиков и создает образцово-показательное хозяйство развитого феодализма. Повторюсь, ни один американец мимо этого сюжетного поворота не прошел бы, а Гоголь проскочил…
Повторю еще раз: Россия не Америка. С сюжетом русские писатели стали работать в начале ХХ века, незадолго до того, как Лев Лунц в манифесте «Серапионовых братьев» выкрикнул: «На Запад! К Стивенсону и Дюма!» Один из первых опытов такой работы – «Стереоскоп» Александра Иванова. Опыт в той же мере удачный, в какой и неудачный. Потому и весьма плодотворный. Плодотворность этого опыта была замечена острыми наблюдателями современного им искусства, Максимилианом Волошиным и Александром Блоком.
Максимилиан Волошин написал восторженную рецензию, в которой рассуждал о том, как точно понял Александр Иванов мистическую суть фотоискусства: фиксируется, останавливается миг времени, остается труп времени, остановленное движение; и до чего же верно Александр Иванов заметил, что наиболее адекватное воплощение Петербурга – черно-белая или тонированная фотография. Четкость линий вместе с туманностью изображения. Такой… оксюморон.
Александр Блок в свою очередь оставил в дневнике не менее восторженную запись, мол, наконец-то в России появилось то, что Валерий Брюсов называет «научной прозой» и что Александр Иванов пишет поистине пушкинскую прозу. У Блока были своеобразные представления о научности. Но если считать, что рассказ Иванова – одна из первых в русской литературе попыток «сайенс фикшн» с плавным переходом в мистику, то, пожалуй… нельзя не согласиться с первым блоковским замечанием. Насчет пушкинской прозы – тут уж Блоку виднее и слышнее. Значит, пушкинская.
Заметим: плодотворность рассказа Александра Иванова в его… неудаче. У Александра Иванова было великолепное воображение, великий дар выдумки, завязки сюжетного повествования. Вот герой его рассказа через объектив волшебного стереоскопа попадает в замерший мир прошлого, в зал Эрмитажа, в котором он был десятилетия тому назад еще ребенком. Вот он бродит среди застывших людей прошлого, в остановленном их движении. Вот его посещает мысль: а может, это все мне снится? Как проверить? (Здесь научность, пожалуй что налицо… Эксперимент – проверка мысли.)
Он разбивает стекло витрины и забирает древнеегипетского каменного скарабея. (Заметим, что, разрабатывая тот же сюжет путешествия в прошлое, Рэй Бредбери придумывает другой поворот, коль скоро человек из будущего (которое для него настоящее) в этом прошлом что-то порушил (бабочку раздавил), будущее будет другим, он вернется в иное, уже не свое настоящее. В случае с героем рассказа Иванова, он оказывается сразу в октябре 1917 года: «Бежит матрос, бежит солдат, стреляет на ходу, рабочий тащит пулемет, сейчас он вступит в бой»… Господа, куда я попал? А не надо было эксперименты ставить, скарабея из эрмитажной витрины в застывшем прошлом воровать…)
Заметим, что этот (брэдбериевский) вариант развития сюжета с посещением магического музея разработал писатель, весьма тщательно читавший фантастическую литературу и литературу того, что было названо Серебряным веком, Владимир Набоков. В его рассказе «Посещение музея» эмигрант входит в музей южнофранцузского города, а выходит в заснеженную Советскую Россию. Нуль-транспортировка – так в нынешней фантастике это называется.
Александр Иванов, впрочем, тоже неплохо придумал. Одна из застывших фигур в зале Эрмитажа оживает. Какая-то странная малоприятная старуха. Она преследует экспериментатора. Хочет не пустить его к фотоаппарату, благодаря которому получился волшебный снимок. Не пустить к камере нуль-транспортировки. Экспериментатор все же обгоняет старуху и оказывается сначала у фотоаппарата, а потом в своей комнате.
Ложится спать. Утром решает проверить результаты эксперимента. Может, все-таки сон? Кошмар? Нет. Скарабей на месте. В кармане. Значит, не сон. Завязка выше всяких похвал. Остается только накручивать еженощные приключения и путешествия героя в застывший Петербург прошлого и его попытки спасти себя от зловещей ожившей старухи и вырваться обратно в мир живых. Но как развязать завязку, что с ней делать, Александр Иванов не знает. В очередной раз герой спасает себя от ожившей старухи, в очередной раз он в своей комнате, но ему не по себе. Он заглядывает в стереоскоп и видит… старуху. (Может, из-за этой сцены Блок вспомнил Пушкина: «„Старуха!“ – вскричал Герман».)
Герой хватает молоток и разбивает стереоскоп. Вот и всё. Но это же не герой хватает молоток и по волшебному стереоскопу со всей силы – шарах! Это автор расколачивает свою великолепную завязку – молотком и в мелкие дребезги. Тут-то и быть сюжетному повороту, который увидел… Даниил Хармс. Хвативший молотком по стереоскопу экспериментатор просто-напросто освободил мертвую старуху, которая была в этом стереоскопе заключена, заперта. Теперь от нее не избавиться. Она будет повсюду, мертвое не убить. Куда бы ни прятал мертвую старуху бедняга, она будет аккуратно к нему возвращаться. Таким вот эхом отозвался рассказ Александра Иванова «Стереоскоп» в тексте хармсовской «Старухи». Так срифмовался.
* * *
Забудьте то, что вы только что прочитали. Это был мой путь к собранным новеллам, к тому, каким эхом они отзываются, каждая в каждой. Пусть ваш путь будет другим, вашим собственным. Несрифмованными остались «Епифанские шлюзы» Андрея Платонова и «В овраге» Чехова, миниатюра Бунина и миниатюра Зощенко. Без пары до сих пор по достоинству не оцененный «Коллекционный экземпляр» Бродского. Вы уж сами постарайтесь услышать эхо, обнаружить связь. В конце концов, это ведь тоже будет игра в жанре остросюжетной новеллы, квест. Найдите рифму, услышьте эхо.
Кроме того, в культурной памяти нашего времени классические романы живут благодаря экранизациям, создавая некие зрительные представления о прошлой русской жизни. Новеллы экранизировать как-то не принято. И зря. Сборник русских рассказов может добавить новые образы, расширить палитру, а то так и останемся с Раскольниковым, Григорием Мелеховым и Анной Карениной.
Николай Лесков
Человек на часах
Глава первая
Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы, а развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России.
Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых годов совершающегося девятнадцатого столетия.
Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько.
Глава вторая
Зимою, около Крещения, в 1839 году в Петербурге была сильная оттепель. Так размокропогодило, что совсем как будто весне быть: снег таял, с крыш падали днем капели, а лед на реках посинел и взялся водой. На Неве перед самым Зимним дворцом стояли глубокие полыньи. Ветер дул теплый, западный, но очень сильный: со взморья нагоняло воду, и стреляли пушки.
Караул во дворце занимала рота Измайловского полка, которою командовал блестяще образованный и очень хорошо поставленный в обществе молодой офицер, Николай Иванович Миллер (впоследствии полный генерал и директор лицея). Это был человек с так называемым «гуманным» направлением, которое за ним было давно замечено и немножко вредило ему по службе во внимании высшего начальства.
На самом же деле Миллер был офицер исправный и надежный, а дворцовый караул в тогдашнее время и не представлял ничего опасного. Пора была самая тихая и безмятежная. От дворцового караула не требовалось ничего, кроме точного стояния на постах, а между тем как раз тут, на караульной очереди капитана Миллера при дворце, произошел весьма чрезвычайный и тревожный случай, о котором теперь едва вспоминают немногие из доживающих свой век тогдашних современников.
Глава третья
Сначала в карауле все шло хорошо: посты распределены, люди расставлены, и все обстояло в совершенном порядке. Государь Николай Павлович был здоров, ездил вечером кататься, возвратился домой и лег в постель. Уснул и дворец. Наступила самая спокойная ночь. В кордегардии тишина. Капитан Миллер приколол булавками свой белый носовой платок к высокой и всегда традиционно засаленной сафьянной спинке офицерского кресла и сел коротать время за книгой.
Н. И. Миллер всегда был страстный читатель, и потому он не скучал, а читал и не замечал, как уплывала ночь; но вдруг, в исходе второго часа ночи, его встревожило ужасное беспокойство: пред ним является разводный унтер-офицер и, весь бледный, объятый страхом, лепечет скороговоркой:
– Беда, ваше благородие, беда!
– Что такое?! Страшное несчастие постигло!
Н. И. Миллер вскочил в неописанной тревоге и едва мог толком дознаться, в чем именно заключались «беда» и «страшное несчастие».