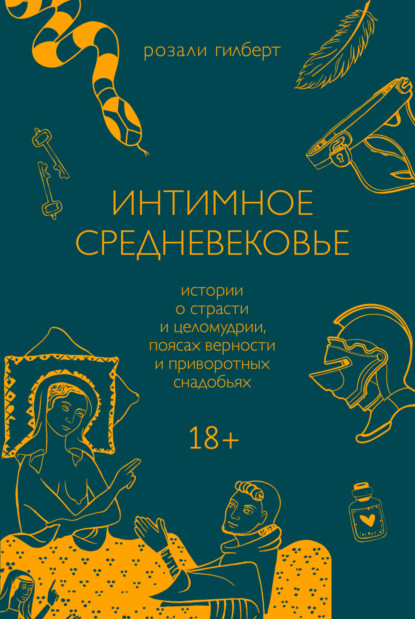Интимное средневековье. Истории о страсти и целомудрии, поясах верности и приворотных снадобьях

000
ОтложитьЧитал

Мужской корень мандрагоры
Hortus Sanitatis. Мандрагора. Предоставлено: Wellcome Collection. CC BY.
В Средние века, если женщина уже давно не девственница или лишилась этого статуса недавно, предполагалось, что она законная жена и мать будущей матери.
Жены и матери
В общем и целом социальной нормой для ребенка женского пола было вырасти, достичь половой зрелости, выйти замуж и стать матерью. Женщины считались более сластолюбивыми, чем мужчины, и брак воспринимался как одобряемое обществом средство для выхода их сексуальной энергии. Не дай бог, чтобы сластолюбивая женщина оказалась предоставлена самой себе. Ей непременно требовался супруг, с которым она утолила бы свою похоть и вожделение.
Священнослужители часто выступали одновременно и за брак, и против него. Он, конечно, считался необходимостью, но мог с большой вероятностью стать причиной глубокого сожаления. Английский теолог Фома Чобхэм родился чуть позже Хильдегарды Бингенской, в 1160 году, но тоже был священнослужителем и написал множество трудов на самые разные темы, касающиеся мужчин и женщин и их интимных отношений. Со временем он стал субдеканом Солсберийского собора и вначале относился к браку благосклонно, почти что с нежностью.
Заключая брак, мужчина отдает женщине свое тело, и она отдает ему свое; не считая души, нет под небесами ничего дороже.
Согласитесь, звучит романтично. Однако это совершенно противоречит мыслям того же Фомы о телесных наказаниях и полах, о чем мы поговорим позже. Тут автор в целом лишен предвзятости и желает счастья обоим супругам, но потом много пишет о грехе и грешности в «Руководстве по исповеди». А его тезка, доминиканский проповедник Томас ван Кантимпре, родившийся в 1201 году в Бельгии, еще до того, как стать фламандским священником, пишет в своей книге о пороках и добродетелях:
Правильно, что люди, связавшие себя узами трудной жизни в браке, находят утешение в умеренной радости. Ибо, как гласит народная мудрость, мужчина, который за год не раскаялся в женитьбе, заслуживает носить на шее колокольчик на золотой цепочке.
Вот спасибо, Томас. Особенно за умеренную радость. Чувствуется, что автор старается как можно мягче описать, насколько ужасно будущее мужчины, решившего жениться, и использует образ колокольчика на золотой цепочке, дабы отобразить рабство каждого женатого человека. Все лучше, чем оковы.

Инициал C, украшенный фигурами людей; изображает женщину, которая добивается расторжения брака, после того как была обманом выдана замуж за мужчину, загримировавшегося под ее жениха
Декрет Грациана. Walters Ex Libris. Manuscript W.133, folio 263r.
В Средние века и каноническое право, и светское законодательство устанавливали одинаковый минимальный возраст девочки для брака – двенадцать лет, – примерно совпадавший с наступлением половой зрелости. Конечно, половое созревание, процесс сугубо индивидуальный, наступало иногда раньше, иногда позже. Мальчикам разрешалось жениться с четырнадцати лет.
Большинство браков устраивали родители, и после достижения договоренности было чрезвычайно трудно избежать замужества. Чтобы переубедить дочерей, которые отказывались выходить замуж за их избранника, они часто прибегали к тактике сильной руки. Потом средневековым женщинам крайне редко удавалось добиться аннулирования несчастливого брака, но жалобы на таковые слышались в судах все чаще и чаще. Как правило, брак аннулировали, если он был заключен обманным путем, а также в случае кровного родства между супругами, импотенции мужа или особенно жестокого обращения с женой, хоть мужей и поощряли их умеренно наказывать.
Кэтрин Маккески из Ирландии
В XV веке некая Кэтрин Маккески, ирландка, изначально противившаяся замужеству с Джоном Кьюсаком, в отчаянии попросила судей расторгнуть ее брак с ним. В 1436 году она привела в суд свидетелей, которые под присягой показали, что родственники принудили Кэтрин к помолвке путем жестоких и неоднократных избиений, и открыто рассказали о ее страданиях на протяжении всего брака. Иными словами, ее согласие взять Джона в мужья у алтаря можно считать таким же добровольным, как согласие человека, рискующего за отказ быть в буквальном смысле забитым до смерти. Брак Кэтрин расторгли.
Надо сказать, ничто не укрепляло брак сильнее, чем рождение наследника (а лучше нескольких), что давало женщине двойной бонус в виде защиты ее интересов по достижении почтенного возраста. Замужняя женщина занимала в средневековом обществе значительно более высокое положение, чем незамужняя. У нее были активы и обязанности. Она считалась кем-то. Понятие супружеского долга означало, что брак и секс идут рука об руку. В XIII веке кардинал Энрико Хостиенсис объяснил это так:
Моральный долг мужа в том, чтобы сексуально удовлетворять свою жену, дабы у нее не было соблазна сбиться с пути истинного и угодить в постель другого мужчины.
Мужья-то ведь никогда не сбиваются с пути и не оказываются в чужих постелях, верно же?
Сначала браки заключались практически где угодно, но потом церковь решила, что это никуда не годится, вмешалась и установила кучу правил. По поводу того, когда нельзя сочетаться браком, была пара-другая указаний; самыми запретными считались периоды Адвента[2] и Великого поста.
А вот правил касательно того, с кем можно и нельзя сочетаться браком, существовало огромное множество, и в основном они касались случаев слишком близкого родства. К примеру, если брак оказывался не таким удачным, как надеялась пара, один из супругов иногда внезапно – весьма вовремя – вспоминал, что они с женой (или с мужем) связаны кровными узами и, к их великому сожалению, их союз необходимо расторгнуть. Судя по записям о судебных делах, дошедшим до нас из той эпохи, это нередко срабатывало, несмотря на то что до свадьбы никто из будущих супругов почему-то не обратил на столь важный факт внимания.
Иоанна Английская и Элеонора Английская
Девушек из крестьянского и ремесленного сословия выдавали замуж немного позже, чем благородных, которые считались готовыми к браку, едва они становились физически способными производить потомство (а то и раньше). Кого-то выдавали в весьма нежном возрасте.
В XIII веке в рамках мирного соглашения, заключенного между королем Иоанном Безземельным и семейством де Пуату, объявили о помолвке четырехлетней Иоанны. Ее младшую сестру, ставшую позже графиней Элеонорой, отдали замуж за английского графа Уильяма Маршалла – младшего, когда ей было девять.
Мария де Богун
К сожалению, печальная судьба постигла двенадцатилетнюю Марию де Богун, родившуюся в 1369 году. В 1380-м девочку выдали замуж за будущего короля Генриха IV Болинброка, и она скончалась, беременная шестым ребенком, в замке Питерборо в 1394 году; как это ни ужасно, бедняжке было тогда всего двадцать четыре года. Шесть беременностей к двадцати четырем годам!
Сейчас отвлекитесь немного – вспомните двадцатичетырехлетних из своего окружения и подумайте, как бы они себя чувствовали, если бы к тому возрасту носили ребенка в шестой раз. Многие из них наверняка не замужем, состоят в серьезных отношениях или беременны впервые. Шесть беременностей – такое сегодня трудно даже представить.
Хотя официальный брак заключался, только когда девочке исполнялось двенадцать лет, церковь разрешала обручать их с семилетнего возраста. Совершалось это якобы по согласию сторон, но, как известно, большинство детей в таком возрасте делают то, что считают правильным их родители, и потому помолвки чаще всего проходили без особых проблем. До наших дней не дошло документов с записями бесед между матерями и дочерями на эту тему, но любому родителю известно: чтобы семилетняя девочка согласилась на то, что тебе нужно, достаточно нажать на правильные кнопки.
Марджери почти шесть. Мать с отцом подобрали для нее потенциально выгодную партию – сына богатого соседа. Сама Марджери тоже наследница огромных владений, и родители с обеих сторон в высшей мере заинтересованы в этом браке. О приданом договорились. Дату бракосочетания назначили. Теперь дело за малым – убедить дочку добровольно выйти замуж.
Мать: О Марджери! У меня потрясающая новость! Мы нашли для тебя мужа! Марджери: Мне так нравятся мои новые туфельки! А тебе нравятся?
Мать: Да, они очень милые, Марджери. Но муж! Это же просто замечательно!
Марджери: Эти туфельки будут моими любимыми.
Мать: Да-да, милое дитя. Но позволь же мне больше рассказать тебе о твоем будущем супруге!
Марджери: Больше этих туфелек мне нравятся только те красные, с пряжками.
Мать: Марджери! Сосредоточься же на том, что я тебе говорю! Позволь мне рассказать тебе о Джеффри, твоем будущем муже.
Марджери (после паузы): А вы купите мне пони?
Мать: Джеффри очень милый мальчик, и он такой взрослый! Ему уже пятнадцать лет!
Марджери: У Энн вот есть пони. Можно и мне пони?
Мать: Если ты выйдешь замуж за Джеффри, у тебя будет все, что ты захочешь.
Марджери: Правда? Все-все?
Мать: Джеффри обязательно купит тебе все, что ты захочешь! Разве же это не потрясающе?
Марджери: Я пони хочу. И еще одни туфли, как эти.
Мать: Значит, ты будешь послушной девочкой и выйдешь замуж за Джеффри?
Марджери: Ну ладно (пауза)… Но только если он подарит мне пони лучше, чем у Энн.
Словом, двенадцать лет, конечно, слишком малый возраст, чтобы самостоятельно принимать столь серьезное решение, притом понимая, что оно за собой влечет в физическом плане, однако девочки часто делали такой шаг добровольно и сознательно. А если брак заключался вопреки желанию сторон или слишком рано, можно было доказать, что он недействителен. Мы знаем это благодаря дошедшим до нас судебным протоколам, в которых оспаривался возраст брачующихся, обычно невесты. Но если обе стороны достигли нужного возраста и согласились на брак, значит, все нормально. Все сделано по правилам, и брачные обеты даны как положено.
Агнес из Йорка
Иногда – в частности, если все выглядело так, что пара намеревалась предаться плотским утехам, но им помешала третья сторона, – брак заключался довольно быстро. При этом клятвы считались действительными, только если были правильно произнесены. Например, слова «Я возьму тебя [в жены/мужья]» определенно не означали «Я беру тебя прямо сейчас» – оплошность, которую явно не собиралась допускать Элис, когда наткнулась на Роберта и Агнес, уединившихся, обнаженных и явно замышляющих нечто не слишком целомудренное в ее собственном доме. В актовой книге из кафедральной библиотеки Йорка находим следующее описание поспешного вмешательства Элис.
1381 год. В понедельник вечером накануне праздника Вознесения Господня она зашла напоследок в некую высокую комнату, расположенную в жилых покоях указанной свидетельницы, где и увидела, по ее словам, Роберта и Агнес, возлежащих вдвоем в одной постели.
– Что ты здесь делаешь, Роберт? – спросила свидетельница Роберта. На это Роберт ответил:
– Я просто здесь.
– Возьми Агнес за руку в знак обручения с ней, – сказала ему свидетельница. Роберт сказал ей:
– Прошу, подожди до утра.
Свидетельница ответила:
– Боже, нет-нет! Сделай это сейчас же. Тогда Роберт взял Агнес за руку и сказал:
– Я возьму тебя в жены.
– Нет, ты должен сказать: «Я беру тебя, Агнес, в жены, и я отдаю тебе свою честь», – велела ему свидетельница, и Роберт, следуя ее указаниям, взял Агнес за правую руку, прижал ее к себе и произнес требуемые слова: «Я беру тебя…» и так далее по тексту.
На вопрос, как Агнес ответила Роберту, свидетельница сказала, что Агнес ответила ему, что считает себя удовлетворенной. Более свидетельница ничего не рассказала, кроме того, что ушла, оставив пару наедине.
Судя по всему, ушлый Роберт, сказав тем утром, что возьмет Агнес в жены, намеревался позже доказать, что он ничего на самом деле не обещал; так он хотел оставить себе лазейку для разных трактовок. Но Элис, судя по всему, видела его насквозь и настояла на том, чтобы он произнес правильные слова и юридически связал себя с Агнес помолвкой. Здесь и сейчас.
Брачный возраст
Минным полем также был достаточный возраст для согласия. Документация в те далекие времена велась отрывочно, и иногда назвать и подтвердить точный возраст невесты оказывалось невозможно.
Один из способов аннулировать нежелательный брак заключался в том, чтобы просто сказать, что невеста на момент бракосочетания не достигла брачного возраста и потому союз недействителен. Обычно таким образом пытались избежать женитьбы мужчины, однако в одном известном нам случае речь идет о юной, но весьма решительной женщине, которая попыталась собрать достаточно свидетелей и с их помощью настоять на том, чтобы ее брак признали действительным.
Элис де Руклиф из Йорка
Итак, в ноябре 1385 года совсем другая Элис оказалась фигуранткой длительного судебного процесса; она упорно настаивала на том, что вышла замуж по всем правилам, и намеревалась сохранить свой брак. Исход дела, казалось, всецело зависел от того, достаточно ли взрослой была невеста и был ли брак консумирован – в таком случае он признавался законным и скрепленным должным образом.
По документам, на момент заключения брака Элис опекал человек по имени Жервез, который, возможно, приходился ей отцом, но это неточно. Описание горячих споров о возрасте девушки заняло множество страниц; суд в Йорке все зафиксировал. В частности, был вызван ряд свидетелей для дачи показаний относительно возраста юной невесты и объяснений по поводу того, почему они уверены, что их слова правдивы, а воспоминания не ошибочны.
Несмотря на факты, суд довольно часто отклонялся от сути дела, когда учитывал статус свидетелей и их состоятельность. Свидетели высокого достатка и значительных доходов явно воспринимались как более надежные и памятливые, чем люди победнее. К примеру, при оценке правдивости и достоверности показаний достаточно важными для занесения в протокол считались такие сведения:
Элис Шарп из Роклиффа, вдова, держательница сэра Брайана де Руклифа, рыцаря; имущества на сорок шиллингов.
Элис, жена Уильяма де Танжа из Роклиффа, держателя сэра Брайана де Руклифа; имущества на одну марку.
Беатрикс, жена Джона Милнера из Клифтона; имущества на девять марок.
Агнес Олд, жительница Клифтона, не держательница сэра Брайана де Руклифа; имущества на двадцать два шиллинга, с ее слов.
Джоан Симкин, женщина из Роклиффа; имущества почти нет, кроме одежды, постельного белья и небольшого медного горшка; держательница сэра Брайана де Руклифа.
Адам Гейнс, житель Сент-Мэригейт, пригорода Йорка, утверждает, что знал свидетелей Элис на протяжении десяти лет и что все они бедняки. А свидетелей Джона он знал в течение двадцати лет. Они гораздо богаче свидетелей Элис. Джон де Киллом из Клифтона знал всех названных свидетелей на протяжении шестнадцати лет. Все они люди весьма состоятельные.
Можно и не говорить, чье слово взяло верх – дюжины женщин, подобных упомянутым выше, чьи свидетельства подтверждали друг друга, или одного-единственного парня, который даже не присутствовал в суде и всего лишь дал показания о репутации подсудимого, тогда как другие свидетели действительно были причастны к делу. Этот Адам даже не проходил свидетелем по делу, но, судя по всему, отлично знал, кому следует подпевать. Музыку всегда заказывают богачи.
Далее в протоколе говорится, что свидетелей Элис де Руклиф спрашивали о ее возрасте. Вопрос напрямую связан с законностью ее брака. Если Элис на момент его заключения была недостаточно взрослой, Джон мог аннулировать брак, независимо от всего, что случилось после свадьбы, в том числе от того, познал ли он ее в библейском смысле. Согласно многим свидетельствам, ей на момент обручения было одиннадцать, но ко времени бракосочетания уже исполнилось двенадцать:
Что касается ее возраста, свидетельница по имени Элен де Руклиф, вдова Элиаса де Руклифа… говорит, что ей достоверно известно, что до субботы, предшествующей шестому воскресенью Великого поста, Элис исполнится тринадцать лет, не раньше. По словам свидетельницы, она точно знает это, потому что сама родила дочь, нареченную Кэтрин, накануне праздника Сретения тринадцать лет назад, а в субботу перед первым воскресеньем шестой недели поста, после празднования Сретения, Элен, тогдашняя жена Жерваза де Руклифа, родила Элис, о которой идет речь. По ее словам, при родах девочки она лично не присутствовала, но незадолго до этого видела Элен, мать Элис, беременной дочерью.
Короче говоря, свидетельница Элен знала дату рождения Элис, потому что сама родила дочь почти в то же время. Она помнила, когда родилась ее дочка Кэтрин, и поэтому могла довольно точно назвать день рождения Элис.
Надо сказать, способ запоминать даты рождения по ассоциации с другим личным или церковным событием в средневековом обществе использовали активно. Следить за днями недели или месяца было в те времена довольно трудно, но церковь вела скрупулезные записи обо всех своих праздниках и прочих событиях, и это позволяло относительно легко вспомнить, что происходило за несколько дней до или после одного из них. Существовал еще один способ подкрепить на будущее память потенциальных свидетелей – если в день рождения сделать человеку подарок, то он вряд ли о нем забудет.
Итак, в судебных протоколах много говорится о возрасте Элис и о том, была ли она достаточно взрослой для замужества, после чего тема обсуждения меняется; теперь речь идет о документальном оформлении ее брака, что также очень важно для того, чтобы считать его действительным и законным. И снова множество свидетелей дали показания, но никто не был так настойчив и решителен, как сама Элис и ее родня, явно стремившаяся сохранить брак. Например, один аббат, которому об этой истории поведала некая Джоан, свидетельствует следующее:
Что касается брака, официально оформленного и, следовательно, законного, по вышеупомянутому делу был призван, дал клятву и был опрошен Уильям Маррей, аббат монастыря Святой Марии в Йорке… он говорит, что после заключения брачного контракта Джон и Элис заверили его, а потом супруги возлежали вместе наедине, нагие. Ему это достоверно известно от родственников с обеих сторон, а именно Джона и Элис, а также от некой Джоан Роллестон, которая в то время делила с Элис спальню и лежала с ними в одной комнате. Джоан говорила, что Элис в последний раз присутствовала в их общей спальне в ночь сразу после праздника апостола Иакова, и тогда Джон познал Элис в библейском смысле, как рассказывала сама Элис этой свидетельнице после последней Пасхи на полях Гримстона и в других местах; и Джоан также рассказывала, что видела Джона и Элис возлежащими в одной постели, что слышала звуки, говорящие о том, что они занимались любовью, и что два или три раза Элис тихо жаловалась на излишний напор Джона, что он причинял ей боль своими стараниями.
Судя по всему, свидетельств тому, что брак был консумирован как положено, хватало с избытком, но исход спора до конца не ясен. До наших дней дошли записи и о других судебных процессах, касающихся законности брака, и они содержат элементы, похожие на те, что встречались в деле Джона и Элис.
Детский брак
Больше всего нам известно о ранних браках членов королевских или других благородных семейств в случаях, когда одна из сторон яростно и сразу же выступала против брака и громко и публично заявляла о своем протесте. Известный пример детского брака – дело маленькой, но весьма состоятельной Маргарет Бофорт.
Маргарет Бофорт из Бедфордшира
Маргарет Бофорт родилась в мае 1441 или 1443 года в Англии и выходила замуж несколько раз, что говорит нам кое-что о ее происхождении и, так сказать, востребованности в качестве невесты. В 1450 году, после того как скончался ее отец и она перешла на попечение герцога Саффолка Уильяма де ла Поула, был устроен ее первый брак с Джоном Поулом.
Так уж удобно получилось, что сын Уильяма Джон, тоже одинокий, в нужный момент якобы искал себе жену. Семилетняя Маргарет не имела в этом вопросе права голоса, как и ее (тоже семилетний) муж, – по крайней мере, они находились примерно в одинаковом положении. Да и никакую жену он себе, понятно, не искал. Инициатива исходила исключительно от его отца. Согласно другим документам, Маргарет на момент ее первого бракосочетания вообще было не больше трех лет. В любом случае, через три года после заключения брака его удалось расторгнуть. Брак не был консумирован, так что сделать это оказалось относительно просто.
А еще два года спустя, когда Маргарет исполнилось двенадцать, она сама дала согласие на брак с двадцатичетырехлетним Эдмундом Тюдором. Внешне в Эдмунде было все, чего могла искать в супруге любая девушка, но о его отношении к женитьбе на двенадцатилетней девочке нам ничего не известно. Вскоре после их бракосочетания разразилась война, и Эдмунд скончался от чумы. Тринадцатилетняя Маргарет, находясь на седьмом месяце беременности, стала вдовой. Ребенка она родила совсем юной, и больше детей у нее не было. Скорее всего, роды оказались сложными и в процессе Маргарет получила серьезную травму. Впрочем, судя по всему, это не умаляло ее привлекательности в глазах других женихов.
Ее третий брак, с сэром Генри Стаффордом, аннулировали из-за слишком тесной родственной связи между ними (он приходился ей троюродным братом), хотя на момент заключения союза это никому не казалось большой проблемой – тогда ее богатство побудило церковников смотреть на дело под другим углом. К двадцати восьми годам Маргарет овдовела во второй раз, но по-прежнему оставалась востребованной на брачном рынке и вскоре вышла замуж в четвертый раз, за Томаса Стэнли.
Уже во время четвертого брака она дала обет целомудрия и прожила остаток жизни, решительно избегая секса. Чаще всего о Маргарет вспоминают как о матери короля Генриха VII и о бабушке короля Англии Генриха VIII по отцовской линии. Она прежде всего воспринимается как женщина, дочь, жена, мать и бабушка.
Избежать секса в браке было чрезвычайно трудно, поскольку в понятие супружеского долга входит то, что муж или жена имеют полное право требовать от второй половины физической близости, и отказ часто приводил к обидам. В такой ситуации обычно шла в ход фраза «я не приму отказа», даже в отношении юной особы двенадцати лет от роду. Впрочем, как мы увидим чуть позже, существовал не один способ обойтись без прямого отказа.
Вдовство
Вдовство и целомудрие были друг от друга неотделимы. Вдова по определению не занималась сексом. Если она оказывалась замечена в подобном, остальные жители деревни или города решительно ее осуждали, а хорошая репутация для вдовы в Средние века очень много значила, ее вот так легко на помойку не выбрасывали. Кроме того, в ее жизни находились куда более важные занятия – отбиваться от неподходящих, но порой настойчивых женихов, воспитывать детей, управлять делами и имуществом, зарабатывать себе на достойное существование.
Состоятельные вдовы обычно становились мишенями для повторного брака, поскольку ясно же, что оставлять женщину без присмотра нельзя, ее непременно должен контролировать мужчина. Кроме того, многие вдовы владели значительными активами, которые лучше смотрелись бы в портфеле заинтересованного жениха.
Вдовы казначейского реестра
Овдовевшей средневековой женщине, не стремившейся к новому замужеству, избежать брака часто было трудно. В 1130 году в Англии всех богатых вдов и сирот заносили в казначейский реестр, и король мог «раздавать» их по своему усмотрению, руководствуясь в первую очередь соображениями выгоды от создания союзов, удачных с финансовой точки зрения, и куда меньше – перспективами личного счастья и обеспечения комфортной среды для женщины или ребенка. Юные наследницы также рассматривались скорее как востребованное движимое имущество, нежели как люди со своими желаниями и чувствами.
Если у женщины находились нужные средства, она могла выйти из реестра и остаться незамужней. Это бы звучало как ужасный, но вполне реальный компромисс, если бы не одна загвоздка: обычно цена выкупа была настолько высокой, что вдове для его выплаты требовалось продать львиную долю имущества, в результате чего она становилась бедной и нуждалась в муже, который бы ее обеспечивал. Такая вот средневековая уловка-22.
Люсия Торольдсдоттир из Линкольна
Люсия родилась в мае 1074 года; она, богатая наследница и на редкость решительная особа, была не из тех, кого легко держать в узде. Ее жизнь можно считать отражением судеб многих состоятельных женщин Средневековья: девочка выросла, вышла замуж, благодаря чему получила титул и приумножила свои богатства, а после смерти первого мужа опять вышла замуж. Когда Люсия поняла, что стоит на пороге четвертого замужества, которого ей очень хочется избежать, этот цикл повторялся уже трижды. Как мы говорили, Англия XI века позволяла вдове остаться незамужней, если она уплатит нужную цену. Для такой женщины, как Люсия, цена оказалась высокой. Но Люсия, повторюсь, была дамой решительной; она собрала необходимые средства и выкупила свою свободу. За ошеломляющую для того времени сумму в пятьсот марок. Но и это обеспечивало ей всего пятилетний «льготный» период. Люсия добавила еще сотню марок, дабы иметь возможность отправлять правосудие среди своих людей в собственном суде[3], но сейчас не в полной мере понятно, что включала в себя такая сделка.
На определенном этапе жизни эта решительная дама стала графиней Честерской и большинству историков более известна под именем Люси Болингброк.
Вдова Гибскотт из Линкольна
Вдовам Средневековья приходилось защищать и поддерживать свою репутацию, но время от времени их судили за неподобающее поведение. Впрочем, большинство подобных дел сегодня мы бы назвали несерьезными. Судебное преследование за сплетни на первый взгляд кажется явно чрезмерным, но не следует забывать, что доброе имя в те времена значило очень много и клевета могла погубить женщину. Хотя, по-моему, есть нечто детское в том, чтобы привлекать людей к суду из-за обзывательств.
Одна запись, хранящаяся в архивах епархии Линкольна в Англии, гласит:
Вдова Гибскотт постоянно клевещет на своих соседей.
В сущности, пожилые сплетницы и сегодня встречаются повсеместно, здесь нет никакой разницы. Да и вдова Гибскотт явно была не единственной, кто любил тыкать в людей пальцем. Например, еще две женщины, Агнес Хортон и Джоан Уайтскейл, тоже не пылали друг к другу любовью и в итоге предстали перед судом из-за обзывательств, которые, вероятно, выходили за все допустимые рамки.
Агнес Хортон и Джоан Уайтскейл из Брилла
Среди исков о диффамации[4] за 1505 год, сохранившихся в архивах Судов архидиаконства Бэкингема, мы находим дело Агнес и Джоан, представших перед судом по обвинению в нарушении общественного порядка посредством обзывательств.
1505 год. Агнес Хортон из прихода Брилл и Джоан Уайтскейл из прихода Брилл. Вызваны в суд официально по обвинению в постоянных взаимных ругательствах и обзывательствах; то одна называет другую «шлюхой из шлюх», то наоборот.
Очевидно, что особой любви между этими двумя женщинами не было, и можно только представить себе, какие обстоятельства в итоге привели к тому, что они оказались в суде. В документе нет упоминаний о том, состояли ли дамы в браке и что вообще довело их до жизни такой. Может, их мужья конкурировали в бизнесе? Может, обе были одиноки и имели виды на одного мужчину? Может, одна из них и правда была «шлюхой», за что другая ее обзывала, а та огрызалась в ответ? А может, они одевались слишком вызывающе и выглядели так, словно пытаются привлечь к себе взгляды всех мужчин в округе?
Кто знает? У таких личных взаимоотношений должна быть предыстория. Люди редко начинают крыть друг друга последними словами без всякой причины.
Вдова Колл из Оксфорда
В еще одном редком судебном деле мы знакомимся со вдовой, которая с чрезвычайной благосклонностью относилась к незамужним беременным женщинам. Однако вместо того, чтобы обеспечить ей всеобщее признание за столь достойный и человеколюбивый настрой, на нее подали жалобу в суд. В ее деле, хранящемся в архивах оксфордской церкви Святого Петра ле Бейли, однозначно заявляется:
Вдова Колл принимает в своем доме беременных женщин и окружает их заботой.
Что ж, ура вдове, которая, судя по всему, оказалась гораздо гуманнее подавляющего большинства своих современников. Это же потрясающе, что ей хватало внутренней силы предлагать убежище другим женщинам, забеременевшим без мужа и оказавшимся в чрезвычайно трудной ситуации. Им не к кому было обратиться за помощью; их не только порицали, но и возбуждали против них судебные разбирательства.
Разве забота о менее удачливых ближних не считалась актом истинной благотворительности? Сведений о том, как вдова умоляла суд не осуждать ее, и о результатах мольбы не сохранилось. Впрочем, в дошедшем до нас документе как минимум ни слова не говорится о наказании или штрафе, так что добрую вдову, вполне вероятно, отпустили с указанием прекратить свою деятельность.

Обет воздержания и монашество – одни из самых доступных вариантов действий для женщины, не желавшей выходить замуж
Монахиня. Часослов, маргиналии. Walters Ex Libris. Manuscript W.87, folio 102v.
Вдова также могла дать обет целомудрия – со всей серьезностью решить оставаться целомудренной и обещать это Господу при свидетелях. Причем вовсе не обязательно было постригаться в монахини или уходить в монастырь – лишь публично дать обет, пройдя через относительно простой процесс. Требовались только епископ, кольцо, накидка да наличие усопшего мужа.
Епископ, понятно, управлял церемонией и благословлял кольцо, которое вдова должна была теперь носить на пальце не снимая. Поскольку предполагалось, что вдова одевается скромно, особых требований к платью не предъявляли. В Средние века замужние женщины и женщины старшего возраста в большинстве мест носили вуали и накидки; это был обязательный для них элемент одежды. По сути, дав обет, вдовы продолжали одеваться так же.
Маргарет Бофорт из Бедфордшира, о которой мы говорили раньше, дабы избежать четвертого замужества, пошла на такой шаг, но довольно необычным образом; она дала обет безбрачия, когда третий муж был еще жив, и подтвердила его, когда тот лежал на смертном одре. Как востребованная невеста с большими политическими связями и огромными земельными наделами, Маргарет уже не раз побывала замужем и, судя по всему, хотела заблаговременно и решительно заявить о том, что с той поры более не намерена этого делать. Ни капельки ее не осуждаю.
Монахини и заново рожденные девственницы
Очень религиозные девственницы могли уйти в одобренную церковью монастырскую общину, женский монастырь или подобное учреждение и оставаться там, вдали от внешнего мира и посягательств потенциальных мужей. Служительницы Господа занимали в обществе такое же высокое положение, как и девственницы. Можно предположить, что по сравнению с замужними женщинами они пользовались меньшим уважением, но это не так. Монахини вступали в духовный брак, и современникам он казался таким же реальным, как плотский. Просто они находились под опекой не смертного мужчины, а, так сказать, небесного, то есть Господа. Он во всех смыслах был их небесным женихом, и данные ему обеты считались не менее серьезными и обязательными для исполнения.
- Как читать книги. Руководство по чтению великих произведений
- Реальный репортер. Чему не учат на журфаке
- Выбор. О свободе и внутренней силе человека
- Мода и гении
- В поисках гробниц Древнего Египта
- Кельтские мифы
- Гардероб в стиле Zero Waste
- Роман с Грецией
- Греческие и римские мифы. От Трои и Гомера до Пандоры и «Аватара»
- Волна. О немыслимой потере и исцеляющей силе памяти
- В погоне за жизнью. История врача, опередившего смерть и спасшего себя и других от неизлечимой болезни
- Мастер шейков и «Маргариты». Коктейли для запойных читателей
- Сердце из стекла. Откровения солистки Blondie
- Следующая пандемия. Инсайдерский рассказ о борьбе с самой страшной угрозой человечеству
- Древняя магия. От драконов и оборотней до зелий и защиты от темных сил
- Знай мое имя. Правдивая история
- Пять жизней. Нерассказанные истории женщин, убитых Джеком-потрошителем
- Добровольный узник. История человека, отправившегося в Аушвиц
- Египетские мифы. От пирамид и фараонов до Анубиса и «Книги мертвых»
- Культовые художники и их стиль. Как гении искусства и моды вдохновляли друг друга
- Дар. 12 ключей к внутреннему освобождению и обретению себя
- Из кожи вон. Правдивая история о том, что делает нас людьми
- Красивый мальчик
- Земля кочевников
- Обретение внутренней матери. Как проработать материнскую травму и обрести личную силу
- Кроме шуток. Как полюбить себя, продать дуршлаг дорого, прокачать мозг с помощью телешоу и другие истории от Эллен Дедженерес
- Вокруг света за 80 деревьев
- Властелины кино. Инсайдерский рассказ о том, как снимаются великие фильмы
- Индийские мифы. От Кришны и Шивы до Вед и Махабхараты
- Счастливый хвостик. Наука о том, как сделать вашу собаку счастливой
- В мире с животными. Новое понимание животных: как мы можем изменить нашу повседневную жизнь, чтобы помочь им
- Быть Мужчиной. Современная мужественность без насилия, доминирования и страха
- Интимное средневековье. Истории о страсти и целомудрии, поясах верности и приворотных снадобьях
- Съест ли меня моя кошка? И другие животрепещущие вопросы о смерти
- Атлас Нового года и Рождества. Самые веселые, вкусные и причудливые праздничные традиции со всего мира
- D. V.
- Старшая сестра, Младшая сестра, Красная сестра. Три женщины в сердце Китая ХХ века
- Сказки подлунного мира. Легенды и предания, которые помогут лучше понять мир и себя
- Искусство маленьких шагов. Заботливое руководство по обретению радости для тех, кто устал
- Главное в истории литературы. Ключевые произведения, темы, приемы, жанры
- Духовный интеллект. Как SQ помогает обойти внутренние блоки на пути к подлинному счастью
- Идеальное преступление. 92 загадочных дела для гениального злодея и супердетектива
- То самое Таро. Полное руководство по значениям, раскладам и интуитивному чтению карт
- Таро: 78 ступеней мудрости на пути к самопознанию
- Убийство в кукольном доме. Как расследование необъяснимых смертей стало наукой криминалистикой
- Психология убеждения. 60 доказанных способов быть убедительным
- Главное в истории науки. Ключевые открытия, эксперименты, теории, методы
- Эмоции: великолепная история человечества
- Правила счастья кота Гомера. Трогательные приключения слепого кота и его хозяйки
- Египетская «Книга мертвых»
- Страшный, таинственный, разный Новый год. От Чукотки до Карелии
- Кельты. Мифология, сформировавшая наше сознание
- Главное в истории Вселенной. Открытия, теории и хронология от Большого взрыва до смерти Солнца
- Книга драконов. Гигантские змеи, стражи сокровищ и огнедышащие ящеры в легендах со всего света
- Великолепный век османского искусства. Дворцы, мечети, гаремы и ночной Босфор
- Яды. Великолепная история человечества
- Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки
- О дивный тленный мир. Когда смерть – дело жизни
- Греческая мифология, сформировавшая наше сознание
- Старшая Эдда
- Главное в истории медицины
- Вайолет, склонившаяся над травою
- Подсознание. Великолепная история человечества
- Вокруг света за 80 растений
- «Плохие девочки»: Дракула в юбке, ведьма из Блэр, монахиня из Монцы и книжные злодейки
- Государь
- Слово о полку Игореве
- Главное в истории мифологии. Ключевые сюжеты, темы, образы, символы
- Молодой Александр
- Волшебная книга Нового года и Рождества. Традиции, сказки и рецепты со всего света
- Русский героический эпос
- Друг отвел меня к психиатру. Как я был сыном богов, капитаном космической миссии и вел хронику своего безумия
- Русские народные сказки с женскими архетипами. Баба-яга, Марья Моревна, Василиса Премудрая и другие героини
- Большая книга корейских монстров. От девятихвостой лисицы Кумихо до феникса Понхван
- 4 сезона волшебства. Тайные послания и рецепты, нашептанные лесом
- Продавец туманов. Истории в стихах для городских мечтателей
- Психология Таро. Самопознание через архетипы и бессознательное
- Страшные сказки братьев Гримм: настоящие и неадаптированные
- Главное в истории искусства Кореи. Ключевые произведения, темы, имена, техники
- Японские легенды. Оборотень Кицунэ, ведьма Такияша, слово самурая, заклинания, месть и любовь
- Боги и демоны Древней Индии. Мифы из края Брахмы, Вишну и Шивы
- Коты-ёкаи, лисы-кицунэ и демоны в человеческом обличье. Иллюстрированный бестиарий японского фольклора
- Нечистая, неведомая и крестная сила
- Возвращение героя. Архетипические сюжеты, древние ритуалы и новые символы в популярной культуре
- Главное в истории исламского искусства. Ключевые произведения, эпохи, династии, техники
- Мы купили книжный магазин. Как исполнить мечту книголюба и (почти) не сойти с ума от счастья и читателей
- Волшебные и страшные мифы леса. От феникса до Иггдрасиля
- Интимная история человечества
- Выбор. О свободе и внутренней силе человека
- Дар. 12 ключей к внутреннему освобождению и обретению себя
- Как раскрыть убийство. Истории из практики ведущих судмедэкспертов Великобритании
- Интимное средневековье. Истории о страсти и целомудрии, поясах верности и приворотных снадобьях
- Съест ли меня моя кошка? И другие животрепещущие вопросы о смерти
- Vagina obscura. Анатомическое путешествие по женскому телу
- Страшный, таинственный, разный Новый год. От Чукотки до Карелии
- Код цвета. Небесный голубой, газетный желтый, королевский фиолетовый и другие оттенки в культурной истории цвета
- О дивный тленный мир. Когда смерть – дело жизни