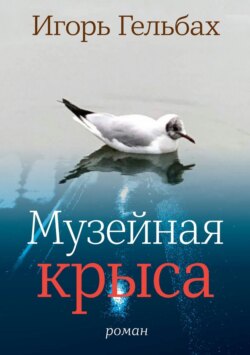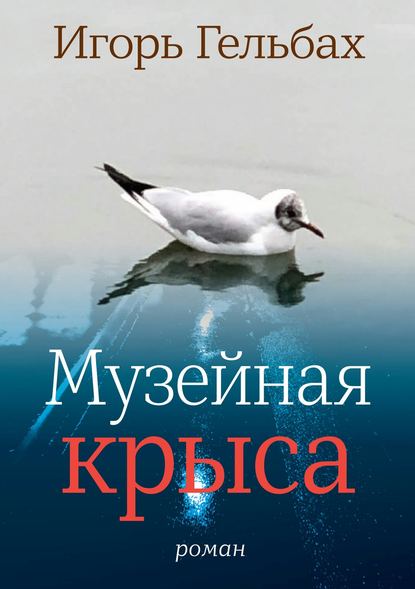Глава одиннадцатая. В мастерской Андрея
1
Потом все уйдет, сотрется и исчезнет из памяти или окажется погребенным под ворохом многочисленных фактов, материалов и слов, и среди всего исчезнувшего окажутся, возможно, и те немногие живые детали и связи, без которых Андрей для меня немыслим, ибо он, в конце концов, был частью какого-то места, живого узла, человеческих связей и общей атмосферы времени, то есть всего того, что в первую очередь поглотят темные и холодные воды истории. При том что картины его и графические работы останутся, и именно по ним, отталкиваясь от них, будут судить о нас люди новых времен.
Были ли его талант и дарование «камерными»? Был ли он «субъективным летописцем»? Визионером? Клоуном и пьяницей? Искусным имитатором? Или мастером? И по какой шкале следует измерять его достижения? В какое прокрустово ложе впихнуть? Иногда он представляется мне кем-то вроде художника далекой заморской экспедиции, из тех, что привозили зарисовки с неизвестных дотоле земель. Иногда я ощущаю, что предан ему больше, чем всем остальным своим близким, но кем он был? Пассионарием? Или безумцем? Какова, в сущности, изначальная природа той эльфической, воистину нездешней энергии, что была присуща ему? О чем думал он, глядя из окна своей мастерской, выходившей в глухой двор? Что рисовалось ему, какие образы возникали в потеках на облупленных сырых стенах? В дрожащих от холода неоновых рекламах той поры? В выписанных бледным неоновым огнем вензелях «Рюмочной» и «Телеателье»?
В годы моей молодости кое-кто считал Андрея Стэна сумасшедшим, но таковым, по моему мнению, Андрей никогда не был. Городским сумасшедшим, безумцем – отчасти да, может быть, но безумцем клиническим – вовсе нет. К тому же время от времени он слегка приоткрывал разные стороны своей личности, пожалуй, то был случай многоликости, какой-то редкой способности к перевоплощению, одарившей его возможностью вдохновляться самыми различными событиями и литературными произведениями, в эту широкую категорию я включаю и написанные для театра пьесы. Источником же недоразумения и поспешных суждений были его искренность и почти детская непосредственность в сочетании с умением нашего героя раздуваться, причем метаморфоза сия происходила обычно практически на глазах у его собеседников.
Не раз знакомые говорили мне, что стоило им начать не соглашаться, возражать или хотя бы усомниться в справедливости того, о чем увлеченно и порою даже вдохновенно рассказывал Андрей, как он практически на глазах у собеседника раздувался в огромную лягушку, квакал, краснел, потел и улыбался…
Мне же казалось, что это в основном вопрос восприятия. Обидевшись, Андрей просто надувал губы так, что они становились пунцовыми, притягивая взгляд собеседника; и в этот момент в нем проступало что-то от клоуна, облик его становился и загадочней, и значительней, провоцируя людей неискушенных на наивные, в сущности, замечания о его способности раздуваться.
С виду Андрей был маленький, испуганного вида, стремительно располневший после тридцати человек с синими глазками, с остатками некогда пепельной шевелюры и большими залысинами, время от времени рассказывавший знакомым и товарищам те или иные забавные сведения или просто анекдоты из истории живописи. Маленькие глазки его становились при этом ослепительно синими, белки приобретали желтоватый оттенок по странному закону дополнительных цветов, взгляд метал молнии, и Андрей начинал преображаться в описываемых персонажей, а они при этом, оставаясь узнаваемыми, приобретали странные, необычные характеристики. Он принадлежал к тому типу людей, которые всегда окружены заинтересованными слушателями. Одним из них был я, выделенный его покровительственным отношением, включавшим, по-видимому, и принятие факта нашего родства. Меня при этом знакомые всегда называли по фамилии – Стэн, редко добавляя после этого мое имя – Коля; его же всегда называли полным именем – Андрей Стэн.
Мне мой брат всегда напоминал волчонка с тяжелым характером. Озлобленный на всех и на все, он всегда готов был к отпору, была в нем определенная сумасшедшинка. Нашего деда он недолюбливал. «Провел всю жизнь в страхе, – сказал он однажды, – да еще и помогал продавать картины из Эрмитажа».
Сблизились мы постепенно. Лет семнадцати, уже окончив школу, я начал заходить к нему в мастерскую. Ему было чуть больше тридцати в ту пору, до этого мы не раз встречались у Агаты, но он обычно куда-то спешил – не любил присутствовать на семейных торжествах. Иногда я встречал его на выставках, в музеях и на лекциях.
Однажды он спросил у меня,
– Ну хоть стихи-то ты пишешь?
– Пишу иногда, – признался я, – когда мы на даче или в отъезде. А как придет мысль, что пора возвращаться в Питер,
К знакомым лицам в потеках и сырости,
К зеркалу тусклому и калошам, —
отчего-то начинаю писать стихи…
– Ну, может быть, прочтешь что-нибудь еще? – предложил Андрей.
– Хорошо, – согласился я.
Из написанного мною в Крыму стихотворения о саде понравились ему последние строфы:
Гора сырой ступенью сада
Спустилась в моря синий гул.
Пятнистые кусты раздвинув,
Соленый воздух сад вдохнул.
Где лестница к земле клонится
И бредит листьями ограда,
Вдыхает солнечные блики
Сырая туча винограда…
Помню, он посмотрел в окно на глухую стену напротив, а затем обернулся ко мне и заключил:
– Оказывается, ты настоящий романтик.
– Ну не знаю, – ответил я.
– А ты не огорчайся, – сказал он с удовольствием, – эта порода людей никогда не исчезнет.
2
Однажды я застал Андрея у нас дома. Приход его, как оказалось, был связан с его театральными планами. Начинал он в Мухинском училище, занимался книжной графикой, но затем продолжил обучение в классе великого Н.П. Акимова и стал театральным художником. Он сделал несколько успешных спектаклей, но отношения с людьми театра у него не складывались – так, по крайней мере, говорила моя мать, – возможно из-за его характера, возможно из-за того, что он слишком серьезно относился к своей работе.
Итак, вернувшись однажды домой после занятий в институте, я застал Андрея, оживленно беседовавшего с моей матерью. В то время она уже принялась искать подходы к роли Гертруды, работа над спектаклем началась задолго до выхода приказа по театру, художника на эту постановку хотели пригласить со стороны, и сама мысль о возможности подобной работы Андрея весьма вдохновила.
В ту пору я уже интересовался театром, жизнь на сцене представлялась мне единственно подлинной, а изо всех пьес более всего волновал меня «Гамлет», оттого, возможно, что внутри самой пьесы появлялись бредущие по берегу моря актеры, – боже, как все это напоминало наше взморье, сосны, дюны и зависшее над горизонтом северное солнце.
Как-то, помню это отчетливо, дело было летом, довольно плотная туча, хоть и не объемная, заслонила солнце, небо под тронутым желтизной краем тучи стало фиолетовым, и из-за нее опускались на воду лучи, потоки света, перемешивая желтые и фиолетовые полосы.
Надо ли объяснять, с каким интересом прислушивался я к разговору матери с Андреем. Похоже было, что Андрей воспринимал пьесу так, словно навеяна она всей нашей питерской жизнью. Ему казалось, что Гамлет, в сущности, борется с собственной скукой и пошлостью жизни.
Из пояснений матери после ухода Андрея получалось, что он представлял себе весь спектакль как разворачивающиеся на морском берегу сцены. Виделся ему песок, бредущие вдоль воды актеры, коридоры и залы Эльсинора, пустые черные камины и могильщики.
– Это должен быть спектакль о мировой скуке, – заявил он через несколько дней у себя в мастерской, – той скуке, в которой мы живем. В конце концов, пьеса эта разыгрывается почти в каждом доме, каждый день. И еще, в сущности, это пьеса о театре, – продолжал он, – о том, что одни и те же пьесы разыгрываются вновь и вновь, достаточно поменять лишь несколько строк, как в той вставной пьесе, которую разыгрывают актеры по просьбе Гамлета.
Мысль эта меня захватила, но я и виду не подал. Была у меня такая привычка: молчать о том, что по-настоящему волнует, внимательно слушать то, о чем говорят другие.
– В этом безумии есть своя система. Он мог бы стать могильщиком этой постановки, – заявила мать после ухода Андрея. – Может быть, даже хорошо, что ему не дадут делать этот спектакль. Это был бы крах его театральной карьеры. Он сосредоточился на тюрьме и скуке. Никто на это не пойдет, – призналась она.
Я понял, что мать была озадачена и даже слегка напугана его идеями по поводу постановки «Гамлета», это стало ясно, когда она объяснила мне, что спектакль делается для актеров, а не ради какого-либо нового прочтения.
– Наш Алексей Николаевич уже в том возрасте, когда необходимо браться за Шекспира, – говорила она медленно, – иначе получается, что он как бы и не сложился, и не созрел, и театр под его руководством еще и не вырос достаточно. Ведь мы, в конце-то концов, обслуживаем его интересы, и так оно всегда и было, потому-то и Клара, оглядевшись, прыгнула к нему в постель. И тут появляется Андрей со своей идеей о том, что жизнь наша – тюрьма и скука, которая хуже, чем тюрьма, но, собственно, ее и составляет. Кому же, ты думаешь, нужно это? Нашему Алексею Николаевичу? Или реперткому? Или еще кому-то? Никому! – ответила она на свой же вопрос, не ожидая какой-либо реплики ни от меня, ни от Агаты. – Вот если бы Андрей был режиссером, имел свой театр, дожил до седин и получил награды и премии, вот тогда он смог бы начать играть в свои игры, да и то осторожно… А так… – она внимательно посмотрела на меня и неожиданно произнесла усмехнувшись, причем в глазах ее промелькнуло что-то малознакомое: – Я ведь тоже не прочь сыграть Гамлета, но сейчас такие эксперименты не в моде, хотя Саре Бернар это дозволялось.
Итак, Андрей бунтовал и оттого выглядел странным, даже инфантильным, отказываясь играть в принятые его окружением игры по правилам, понятным всем, а моя мать, готовившая роль Гертруды, принадлежала к тем, кто эти правила игры осознал и принял.
Глава двенадцатая. Мои университеты
1
В армию я попал вскоре после того, как меня исключили из пединститута.
Чем мне на самом деле хотелось бы заниматься, в свои студенческие годы я представлял неясно и оттого посещал лекции и занятия на отделении иностранных языков в одном из располагавшихся вблизи от набережной Мойки корпусов пединститута. Поступил я туда для того, чтобы избежать призыва в армию – в пединституте имелась военная кафедра. С товарищами тех лет встречались мы у памятника Бецкому во дворе, перед зданием бывшего Воспитательного дома.
Один из них, работая позднее истопником, стал поэтом, другой со временем превратился в фарцовщика, а третий, Саша Картузов, известный множеству крутившихся в центре людей под кличкой Картуз, собирался стать театральным режиссером. С ним мы время от времени устраивали «разгрузочные дни», то есть направлялись в Эрмитаж, на очередную выставку или просто слонялись по залам в поисках чего-то незамеченного или непонятого ранее: неожиданных выражений лиц на портретах, странных жестов, необычных пейзажей и тому подобных явлений. Картуз, например, любил разглядывать мумии в нижнем этаже музея и утверждал, что одна из них, алтайская, является мумией его предка.
История эта стала широко известна в нашем кругу особенно после того, как он ввел обычай «пить за мумию», – многим из этого отнюдь не формального сообщества это напоминало о московской мумии, лежавшей в мавзолее. Обычно Картуз предлагал этот тост и в случае необходимости пускался в объяснение легенд, связанных с его родословной и созданием археологической коллекции Эрмитажа.
Дед его был известный археолог, много копавший в Сибири, и Картуз любил рассказывать, как однажды во сне его деду явился человек с длинными, заплетенными в косы рыжеватыми волосами, живший в Сибири за почти четыре тысячелетия до нашего времени. Человек этот поведал деду о том, что, нарушая покой своего предка, тот обрекает потомков на страшные страдания.
– Оттого и пью, – пояснял Картуз, поблескивая разбойничьими глазами, – что не вижу в будущем ничего хорошего. Но вы ведь не откажетесь выпить со мной за мумию? Здоровья мы ей пожелать не можем, но выразить свое уважение должны! – восклицал он, вставая.
На девушек, которых мы водили пить пиво, это порой производило сильное впечатление. Если же рассказ о мумии не достигал нужного эффекта, Картуз обычно менял манеру и тон повествования на более меланхолический и через некоторое время предлагал честной компании выслушать мое стихотворение о Гамлете:
Облезлой львицей с гобелена
Спустилась Англия ко мне,
И на Офельины колена
Я голову склонил во сне.
И снова старый сон приснится,
И тень отца предстанет мне,
На колеснице
Я понесусь на взморье…
Пыль садится
В камине, углями пустом,
И Фортинбраса барабаном
Трамвай грохочет за мостом…
Читал он его, нажимая на последнюю строфу стихотворения. Меня это забавляло, своих стихов я несколько стеснялся.
2
Отчислили меня из института за драку, вернее сказать, я «оскорбил действием», точнее ударил ногой по заду, освобожденного секретаря нашей комсомольской организации, ударил внутренней стороной ступни точно таким же образом, как бьют ногой по мячу, стараясь аккуратно паснуть товарищу по команде. Произошло это в пивном баре на Невском, где секретарь комсомольской организации нашего института появился вместе с народными дружинниками. В тот день мы с Картузом пришли в бар с двумя девушками – студентками финансово-экономического института, находящегося неподалеку.
Пока его спутники говорили с кем-то из администрации заведения, комсомольский секретарь, оглядев зал, подошел к нашему столику.
– Ну что, Стэн, – обратившись ко мне, сказал он, – говорят, ты тут чаще бываешь, чем на лекциях, а?
Честно сказать, никаких симпатий мы друг к другу не испытывали. Фамилия его была Самарин, был он аккуратный парень, весьма средний студент, настроенный на то, чтобы сделать карьеру. Он уже отслужил три года в армии, был старше нас и считался хорошим лыжником. Лицо у него было широкое, нос курносый, глаза неопределенного холодного оттенка, светлые волосы зачесаны назад.
Мне он не нравился как представитель определенного социального типа, да и я, похоже, не нравился ему по той же причине.
– А ты чего здесь делаешь? – спросил я в ответ.
– Мы тут с дружинниками следим за порядком в общественныхь местах, – ответил он.
– Ну и шел бы к общественному туалету, там работы много будет, – предложил я.
– Ты не хами, Стэн, мы здесь представители власти, – гордо заявил он.
– Ну и вали отсюда, пока цел, – сказал я, отворачиваясь.
Разговор наш на этом не закончился, и спустя примерно минуту после интенсивного словесного обмена с использованием нецензурных выражений он повернулся и пошел к телефону, а я к словесному добавил упомянутое «оскорбление действием», после чего был задержан и доставлен в отделение. Там я отказался подписывать протокол задержания, и меня отвели в «холодную».
Помимо обычных для КПЗ бродяг, хулиганов и пьяниц в обширной камере находились и мужики, оказавшиеся там по заявлениям своих жен. Те вызывали милицию, жалуясь на избиения и изнасилования со стороны собственных мужей – это был самый простой способ завладеть жилплощадью мужа и отделаться от него. Тот, как рассказал мне дежурный, обычно получал срок, отбывал его, возвращался и обнаруживал, что у него уже нет ни жены, ни квартиры. Несколько таких историй произошло и с милиционерами. Это был мир лимитчиков, строителей, дешевых и пьяных баб, алкоголиков, шпаны и жителей пригородов с их длинными очередями к пивным ларькам, где в зимнее время пиво продавали подогретым.
Спали мы на голом деревянном полу. Утром, перед поездкой в суд, разговорился я с ментами при КПЗ, простыми ребятами, покинувшими родную деревню или маленький город и пришедшими в милицию после армии. Жили они в общежитиях, некоторые были женаты и надеялись вселиться в ведомственные квартиры. Службу свою в ленинградской милиции они воспринимали как удачу.
Меня повезли в суд, поскольку в отделении милиции решили рассматривать произошедшее не как хулиганство, чего требовал Самарин, а как незначительное нарушение общественного порядка. Случилось это после того, как Картуз связался с моей матерью, а та позвонила начальнику гормилиции. Генерал, разумеется, любил театр и был поклонником ее таланта.
В итоге я предстал перед народным судьей Субботиной А.И., подвергся административному наказанию, получил десять суток, был острижен наголо и вместе с другими нарушителями общественного порядка транспортирован в тюрьму на Шпалерной, откуда вышел после указанного срока, проведенного в камере на четверых и на чулочной фабрике, где я паковал в коробки нитяные изделия. Я запомнил соседей по камере, хряпу, суп из корюшки, кипяток и жестяные кружки, ежедневный шмон перед отъездом на работу и по возвращении в тюрьму, а также истории, рассказанные товарищами по камере.
На следующий же день после возвращения домой оказалось, что у меня начались неприятности в институте. Посадить меня, как этого ему хотелось, Самарин не смог – все-таки я был уроженец Питера, из семьи со связями, а он, хоть и комсомольский секретарь института, уроженец далекого Ярославля, да еще и подвергшийся «оскорблению действием», что в те времена звучало забавно, учитывая, что именно с ним произошло. Но он сумел взять реванш за свое унижение в институте, откуда я в конечном счете был отчислен с правом восстановления на курсе после предъявления положительной характеристики с места работы, где должен был проработать не менее двух лет, или после прохождения службы в армии, куда в итоге я и попал, поскольку мне не хотелось просить отца о содействии.
Я знал, что, когда Андрея призвали в армию, Агата обращалась к моему отцу за помощью, но он не смог предложить ничего лучшего, чем устроить племянника в одну из расположенных под Питером, в Луге, частей, пообещав, что после прохождения «учебки» Андрей станет там художником, будет оформлять «ленинскую комнату», стенды отличников боевой и политической подготовки и руководить покраской выгоревшей травы зеленой краской накануне приезда инспекторов из округа.
Дорожки на территории части посыпались битым кирпичом и в сочетании с зеленой травой и выкрашенными зеленой краской стендами с портретами отличников боевой и политической подготовки под красными знаменами успокаивали инспекторов. «А небо в синий цвет красить придется?» – спросил Андрей у отца и попросил у него книги по военной психиатрии. Судя по всему, книги эти ему пригодились. Его эскиз оформления «ленинской комнаты» был рассмотрен медицинской комиссией с участием психиатра из военного госпиталя, и вскоре Андрей был досрочно освобожден от необходимости прохождения воинской службы.
Ну а меня отец предупреждал не раз, что не сможет помочь избежать службы в армии, но помочь мне пройти службу в более-менее нормальных условиях он мог. Однако меня никак не привлекала возможность службы при госпитале – думаю, это был предел того, что мог предложить отец, – и потому я решил: будь что будет. К тому же после глупой истории с Самариным мне не хотелось просить отца о помощи.
Давили на меня и мои впечатления от споров отца с контр-адмиралом после бунта на большом противолодочном корабле «Сторожевой» в ноябре 1975 года. Тогда, снявшись с якоря, «Сторожевой» неожиданно вышел из парадного строя кораблей на Даугаве, чудом развернулся в узкой реке и, набирая скорость, двинулся в Рижский залив. Вскоре с корабля понеслись радиограммы, в которых замполит Саблин объявлял, что берет курс на Ленинград, идет в Неву к стоянке «Авроры» и требует предоставить возможность одному из членов команды выступить по Центральному телевидению, чтобы сообщить народу, чего добивается экипаж.
Приверженец идеи восстановления чистоты принципов марксизма-ленинизма Саблин следовал словам Бердяева: «Человек может и часто должен жертвовать своей жизнью, но не личностью». Его расстреляли через полгода после подавления мятежа. Отец называл его «новым лейтенантом Шмидтом». Контр-адмирал считал Саблина безумцем. Помню, как, завершая разговор, дед сказал моему отцу: «Как бы то ни было, а делаем мы с вами одно дело».
3
Итак, институт мне пришлось оставить, и я оказался в армии, где меня часто спрашивали, не латыш ли я, адресуясь, очевидно, к таившемуся в глубинах массового сознания образу латышских стрелков. В первый раз случилось это во время прохождения призывной комиссии.
– Так, Стэн Николай, латыш, что ли? – спросил майор в военкомате, просматривая мою папку.
– Нет, я русский, – ответил я.
– Ладно, неважно, разряд по плаванию – это хорошо, пойдешь во внутренние войска, – заключил он.
Несколько раз повторил я в уме наш диалог, и вскоре мне стало ясно, что говорить с армейскими людьми надо коротко, просто и лишь по необходимости. И от этого будет зависеть, как меня будут воспринимать и как станут ко мне относиться. Мне предстояло выработать свою линию поведения, как в свое время Андрею, но тот «косил», а я на это был не способен. Следовательно, мне необходимо было играть роль «тупого латыша»: переспрашивать и уточнять по возможности, так, чтобы ко мне обращались в последнюю очередь, или же исполнять просто и точно обращенные ко мне команды; никому не рассказывать о своей семье, отец и мать – служащие, живем в коммуналке, соседка Тася, да еще дед с бабкой; учился в педе, отчислили за драку. Внешние данные и естественный темперамент позволяли мне изображать медлительного парня с не очень развитым интеллектом. Услышав как-то относившиеся ко мне слова старшины «Ряху-то наел, а с мозгами не очень», я понял, что нахожусь на верном пути.
4
После окончания занятий в учебной части под Ленинградом я провел полгода в конвойном подразделении, участвовал в перевозке заключенных и насмотрелся всякого. Затем меня перевели на службу в караульный взвод стрелков в лагере неподалеку от Камышлова, на Урале, в ста пятидесяти километрах от Свердловска.
Выполняли мы ординарные задачи: конвоировали заключенных на работу, охраняли лагеря по периметру, сопровождали эшелоны и ловили беглецов.
В первое же увольнение я отправился в город на попутке. День был летний, но нежаркий. Побродив по пыльному деревянному городу, я зашел в пивную у городских бань, съел тарелку серых пельменей, выпил жидкого пива, вышел на улицу, купил сливочное мороженое в вафельном стаканчике и отправился от нечего делать в музей.
Экскурсовод, симпатичная девушка с чуть вздернутым носом и карими, слегка раскосыми глазами, одетая как типичная учительница – светлая блузка, темная юбка, туфли на низком каблуке, – обрадовалась моему появлению (согласно служебной инструкции, группа должна насчитывать не менее пяти человек) и повела посетителей на экскурсию. Звали ее Татьяна, и из ее рассказа я узнал, что начинался Камышлов как острог. Было это еще до Петра I. В середине восемнадцатого века через выросшую у острога слободу прошел Сибирский тракт, а в начале двадцатого века Камышлов был купеческим городом с деревянными строениями, каменным Покровским собором, зданием мужской гимназии, городскими банями, резиденцией градоначальника и полицейским управлением. В ту пору в городе насчитывалось более двух сотен лавок, где торговали хлебом из Зауралья и степей Западной Сибири.
Слушали Татьяну и две пары, отдыхавшие в Обухове – бальнеологическом курорте, который располагался в сосновой роще.
– Ну что, служишь? – обратился ко мне стоявший рядом мужчина.
– Служу, – ответил я, – вот приехал город посмотреть. А вы местные?
– Да нет, в санатории отдыхаем, – сказал мужчина.
Приехали они в Камышлов, чтобы подкупить съестных припасов и спиртного. Припасы, привезенные из дому в санаторий, уже закончились.
– Воздух там, понимаешь, в Обухове, хороший, кормят неплохо, но вот выпить и закусить нечего, – объяснил мне коротко стриженный загорелый мужик средних лет в сером костюме.
Жена его одета была тоже во что-то серо-зеленое, пошитое, видимо, у портнихи, на голове у нее была зеленая фетровая шляпка с пером, губы были ярко накрашены. Она чем-то походила на своего мужа, выглядела его ровесницей, но взгляд его татарских с прищуром глаз был поживее. Все то время, что Татьяна рассказывала нам об истории города, женщина в шляпке не переставала бросать по сторонам взгляды из-под темных густых бровей.
Между тем мужчина рассказал мне, что они из Ирбита, где он руководит мясокомбинатом, и что приехали с женой лечить остеохондроз. Мне показалось, что несмотря на ранний час он уже изрядно выпил.
– А их, – он мотнул головой в сторону другой пары, которая была одета поскромней, – мы с собой взяли, чтобы не скучать, они у меня на комбинате работают, технологи, – пояснил мужчина. – Комбинат у нас классный, еще с войны для правительства колбасы производим – и полукопченые, и сырокопченые, и сыровяленые. Есть у нас и отдельный сорт, «вюртембергский» называется, пробовал? Добавляем конины, ну и коньяка, само собой. – Он вытащил из кармана пиджака серебряную фляжку и сделал глоток. Тут только я понял, что аромат коньяка мне не почудился.
– Хочешь? – он протягивал фляжку.
– Мне не положено, – сказал я на всякий случай.
Сунув фляжку в карман, он хмыкнул:
– Молодец, – и продолжал рассказывать: – Дом у меня деревянный, двухэтажный, три дочери, малинник есть, в общем, полная чаша. Да, еще корова имеется, Сиренью зовут. Понял? Вот приезжай в Ирбит, я тебе все покажу, – пообещал он мне уходя.
Жена тащила его за локоть, а пара технологов, мужчина и женщина, последовали за ними, внимательно прислушиваясь к репликам его жены.
– Ну а культурная жизнь? Как с ней обстоят дела? – спросил я у Татьяны.
– Есть у нас кинотеатры и клуб. Ближайший театр в Ирбите, с середины девятнадцатого века, – сказала Татьяна, – у них еще и ярмарка знаменитая, о ней и Герцен писал, и Салтыков-Щедрин. А в Свердловске – я там пединститут закончила, – так там театры не хуже, чем в Москве и Ленинграде.
– И я в пединституте учился, в Питере, – признался я.
– А сюда как попали? – спросила Татьяна.
– Пришлось уйти в академический, – сказал я. – Вот так меня и загребли. Ну, мне пора идти, грузовик пропущу. Так вы здесь когда будете?
– Я здесь бываю по выходным, – ответила она, – а так почти весь день в школе, а потом домой.
– Ну, я в следующий раз зайду. Как только увольнение выпишут. Вы не против? – спросил я.
– Так это ж музей, – сказала она, – приходите, когда захотите, – и пожала плечами.
Позднее я узнал, что она преподает в школе историю, живет с родителями и сыном, был у нее когда-то муж, который выпивал и все не мог отыскать себе работу по душе, а потом уехал куда-то на заработки и исчез.
5
На второй год службы случилось мне застрелить заключенного. Было это зимой, в конце февраля, под вечер, темнело. Он набросил одеяло на проволоку, перелез через «колючку» и скатился вниз к реке по крутому заснеженному склону. Неширокая река замерзла, была подо льдом, другой берег пологий, беглец почти уже добежал до середины реки, а на другой стороне ее подступал к берегу лес, сосны, ели, словом – тайга. Его заметили, по нему стреляли, но вышло так, что я был в самой удобной для стрельбы по нему позиции – на вышке.
– Стреляй, Стэн, стреляй! – услышал я команду старшины.
Выполняя приказ, я прицелился и выстрелил. Беглец дернулся и упал, по снегу потекла кровь.
Я думал, что ранил его, но оказалось – убил. Потом мне рассказали, что убитый был совсем молодым парнем, а преступником неопытным. Попал в лагерь за драку, в которой по глупости убил человека. За три дня до побега получил он письмо от своей подружки, которая обещала ждать его возвращения из мест заключения, а теперь писала, что выходит замуж за его товарища. Этим, очевидно, и объяснялось его решение бежать. Побег свой он никак не продумал и никак к нему не готовился. Что-то, по-видимому, на него накатило, какое-то ощущение того, что не бежать нельзя и что побег ему удастся… А может, он просто был на взводе и решил рискнуть. Я знал по себе: бывают такие моменты, когда действуешь словно в бреду… Обо всем этом думал я уже позднее, по дороге домой.
– Тебя, Стэн, надо поощрить, – сказал начальник по режиму. – Мы тебя в партию примем, я сам тебе рекомендацию дам, а вторую даст начальник караульного взвода.
Мое мнение его совершенно не интересовало.
Меня наградили часами и десятидневным отпуском, который я использовал, чтобы съездить домой. В плацкартном вагоне я оказался среди людей из той же среды, к которой принадлежал убитый мною человек. Поездка запомнилась мне надолго, отчего-то даже сильнее, чем все связанное с лагерем. День и ночь, проведенные в поезде, несущемся по рельсам в сторону Питера сквозь снег и холод, многое объяснили мне в поведении дотоле не очень понятных товарищей, сослуживцев, выходцев из деревень и малых городов России. Вокруг меня были именно те люди, в которых мои нынешние сослуживцы превращались, вернувшись со службы. Зачем все они ехали в Ленинград? Ведь их, пожалуй, больше тянуло в места, где они выросли. Такие города, как Москва или Ленинград, представлялись им чужими и враждебными. И все же они зачем-то стремились туда.
6
Отец прореагировал на случившееся вполне философски, то есть вполне предсказуемым образом.
– Собственно, служба во внутренних войсках и означает лицензию на убийство, но не врага, а гражданина, коль скоро ты становишься частью карательной системы, – сказал он. – А застрелил ты его, выполняя приказ и свой долг, так что тебе нечего стыдиться.
Собственно, так всегда и было с отцом, я и не ожидал от него ничего другого, именно в таком стиле рассуждал он обычно. А вот моя мать не пожелала вникать в детали отцовских рассуждений и обратилась к своему отцу. Она полагала, что меня нужно куда-то перевести из этого «проклятого места», как она называла ИТЛ[5], в караульной команде которого я служил.
– Это твой внук, – заявила она деду, – и если ты любишь его сестру, то должен любить и его.
Она, пожалуй, не учитывала, что контр-адмирал Толли-Толле обычно любил людей вопреки, более того, ему нравилось любить вопреки требованиям здравого смысла.
– Почему мой сын должен кого-то убивать? – спросила она. – Почему он не может служить, как все остальные солдаты?
– Что ты имеешь в виду? – спросил у нее контр-адмирал. – Он должен продолжать служить в том же роде войск, куда его призвали. Эти войска подчиняются МВД. То есть они охраняют общественный порядок, или кого-нибудь, или, наконец, что-нибудь.
– Что-нибудь, но не заключенных же! – воскликнула моя мать. – В конце концов, это твой внук, достаточно того, что уже сделал ты, и того, что сделали с тобою…
- М+Ж
- Рыба. История одной миграции
- Институт сновидений
- Город с названьем Ковров-Самолетов (сборник)
- Последний из миннезингеров (сборник)
- Жили-были старик со старухой
- Против часовой стрелки
- В аду повеяло прохладой
- Орина дома и в Потусторонье
- «Текущий момент» и другие пьесы
- Ваша жизнь больше не прекрасна
- Высотка
- Медведь
- Пламенеющий воздух
- Азартные игры. Записки офицера Генштаба
- Хроника № 13 (сборник)
- Бывший сын
- Поправка Джексона (сборник)
- Свет в окне
- Те, которые
- Девичьи сны (сборник)
- Свечка. Том 1
- Свечка. Том 2
- Сделай, чтоб тебя искали (сборник)
- Замыслы (сборник)
- Мягкая ткань. Книга 1. Батист
- Мраморный лебедь
- Коньяк «Ширван» (сборник)
- Рассказы о животных
- Травля (сборник)
- Барабанные палочки (сборник)
- Мягкая ткань. Книга 2. Сукно
- Отец мой шахтер (сборник)
- Детство Лёвы
- Озеро Радости: Роман
- Очередь. Роман
- Красный Крест. Роман
- Песнь тунгуса
- Савельев: повести и рассказы
- Чай со слониками. Повести, рассказы
- Шакспер, Shakespeare, Шекспир: Роман о том, как возникали шедевры
- Провинциальная философия: трилогия
- Юби: роман
- Родина моя, Автозавод
- Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х
- Музейная крыса
- Рассекающий поле
- Радуга и Вереск
- Гусь Фриц
- Счастливый Феликс: рассказы и повесть
- Минус 273 градуса по Цельсию. Роман
- Садовник (сборник)
- Продолжая движение поездов
- Голубиная книга анархиста
- Волчок
- Цимес (сборник)
- По фактической погоде (сборник)
- Мечта о Французике
- Холода в Занзибаре
- Собаки Европы
- Возвращение в Острог
- Маргиналы и маргиналии
- Коридор
- Либгерик
- Ксю
- Этот берег
- Площадь Борьбы
- Гомер, сын Мандельштама
- Детский альбом. Дневник старородящей матери Ирины Лакшиной
- Трещина
- Сталинский дворик
- О! Как ты дерзок, Автандил!
- Джек, который построил дом
- Лехаим!
- Среди гиен и другие повести
- Доктор Фауст и его агентура
- В поисках Авеля
- Прошлое в наказание
- Кремулятор
- Лис
- По дороге в Вержавск
- Сапфировый альбатрос
- Долгая жизнь камикадзе
- Медуза
- Время сурка
- Натюрморт с селедкой и без
- Изумрудная муха
- Луша
- Джинсы, стихи и волосы