Расцвет империи. От битвы при Ватерлоо до Бриллиантового юбилея королевы Виктории
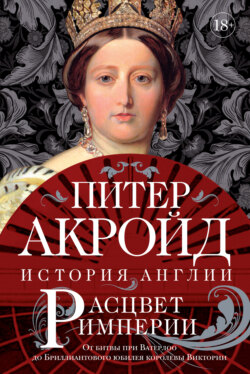
000
ОтложитьЧитал
5
Дверь к переменам
Итак, Джордж Каннинг стал первым премьер-министром, пользовавшимся открытой поддержкой тех вигов, которых он пригласил в правительство. Многие не доверяли ему, но вряд ли существовала какая-то клика заговорщиков, стремившаяся его уничтожить. Люди, которые отказывались работать с ним, ссылаясь на то, что он поддерживает католиков, делали это вполне открыто. Уже в начале своего руководства он добился некоторых успехов, сумев разработать и принять государственный бюджет. Внешняя политика по-прежнему занимала все его мысли: ему приходилось вести переговоры с Грецией, Турцией, Испанией и Португалией, разбирая их разнообразные жалобы. «Я изрядно выдохся», – как-то сказал он коллеге-министру. Тогдашний министр иностранных дел лорд Дадли, видевший его чаще остальных, писал, что «никогда не слышал от него грубого, язвительного или хотя бы нетерпеливого слова. Он был быстрее молнии и до самого конца оставался жизнерадостным и веселым…». Впрочем, по-своему прав был и скептически настроенный Уильям Хэзлитт, который описывал Каннинга как человека, обожавшего играть в политические игры и живо интересовавшегося казуистическими дилеммами и дипломатическими подтекстами. Он всегда был самым умным учеником в Итоне и по-прежнему блистал остроумием и непринужденным красноречием. «Истина, свобода, справедливость, человечность, война и мир, цивилизация и варварство не имели для него большого значения, – добавлял Хэзлитт, – если только не служили темой для его выступления». Зная о его красноречии и обаянии, можно предположить, что это утверждение имело под собой некоторые основания.
Подвела его, правда, не изменчивая тонкость чувств, а сама природа. Он сказал королю, что чувствует себя «совсем больным», и 8 августа 1827 года, проведя на своем посту сто дней, он умер так тихо, что окружающие не сразу это заметили. Он был одним из тех государственных деятелей XIX века, которых работа почти в буквальном смысле свела в могилу. За ним не стояло ни государственных учреждений, ни какой-либо партии – его поддерживали лишь друзья и ближайшие родственники. Остальное довершило вино. Его враги за рубежом ликовали: репутация Каннинга внутри страны была, как и у Оливера Кромвеля, «лишь тенью той славы, которая гремела о нем за границей», где он был известен как гроза тиранов.
Разумеется, он оставил незавершенные важные дела: в последние часы жизни он постоянно возвращался мыслями к Португалии, хотя никто не понимал, что он имеет в виду. Надежды либеральных тори угасли вместе с ним. В частности, многим казалось, что дело католиков проиграно.
Преемником Каннинга стал, пожалуй, наименее известный из всех британских премьер-министров. Виконта Годрича называли «Годрич-добряк» и «Мямля»: при столкновении с любыми трудностями он совершенно терялся. Рассказывали, что, подавая королю прошение об отставке, он расплакался. Поддерживать баланс между вигами и тори было для него такой же непосильной задачей, как пройти вслед за Шарлем Блонденом по натянутому канату над Ниагарой. Он продержался на посту всего шесть месяцев и поставил примечательный для премьер-министра рекорд, умудрившись за все это время ни разу не показаться в парламенте. Он был чрезвычайно тонкокожим и избегал любого внимания.
Нет никаких свидетельств в пользу того, что Годрич или его министры разделяли увлечение Каннинга внешней политикой, и лишь по чистому совпадению во время непродолжительного пребывания Годрича в должности министра британский флот одержал выдающуюся победу. Адмирал Кодрингтон в попытке поддержать Грецию в войне за независимость от Османской империи отправил турецкую эскадру на дно Наваринской бухты. Его союзниками в этом сражении были французский и русский флоты. Их согласованные действия не смогли в тот же час принести Греции независимость, однако победа стала предвестницей отделения Греции от Османской империи. По словам Меттерниха, это сражение «открыло новую эпоху» в европейской политике. Новые эпохи приходят и уходят, но герцог Веллингтон был не прочь сохранить Османскую империю в качестве противовеса России.
Одобрял ли Годрич военное предприятие в Наваринской бухте, не так важно. Он недостаточно долго продержался на своем посту, чтобы его мнение стало иметь какое-то значение. Хаскиссон говорил о новом премьер-министре, что «его здоровье расстроено, сила духа подорвана, работоспособность и умение решать возникающие проблемы оставляют желать лучшего». Еще о нем говорили, что он так же тверд и непреклонен, как камыш. Он с большим облегчением подал в отставку. Он не имел ни склонности, ни способностей к высокому посту, поэтому устал от него быстро и бесповоротно.
Король, по-видимому сожалея о его назначении, теперь выбрал совершенно другого лидера – грозного герцога Веллингтона. (Здесь так и просится трюизм о том, что из хороших солдат не всегда получаются хорошие политики.) Веллингтон никогда не прислушивался к общественному мнению. Лучше всего он проявлял себя на поле боя. Чем была для него Португалия, как не местом, где одержано столько побед? Рассказывают, что после первой встречи кабинета в новом составе он заметил: «Поразительное дело. Я отдал им приказ, но они пожелали остаться и обсудить его». На стороне Веллингтона был Пиль, министр внутренних дел и лидер палаты общин, но он не смог уберечь кабинет от раскола. После первой встречи кабинета один из министров заметил, что они вели себя «с любезностью людей, только что дравшихся на дуэли». Лорд-канцлер предложил не проводить заседаний после обеда: «Мы все слишком много пьем и невежливы друг с другом». Они встречались, спорили, не соглашались. Они ни о чем не могли договориться. Веллингтон был глубоко удручен тем, что, приняв пост первого министра, он больше не может быть главнокомандующим – соединение обеих должностей в одних руках имело подозрительный привкус военной тирании. Король уже жалел о том, что назначил его премьер-министром, и обвинял его в отсутствии гибкости. Появилась присказка: «Либо король Артур пойдет к дьяволу, либо король Георг вернется в Ганновер». (Веллингтона звали Артур.)
Сам Пиль резко отзывался о некоторых своих консервативных коллегах: «Их поддерживают, несомненно, самые верные и задушевные друзья, но эти верные друзья – преуспевающие сельские джентльмены, любители лисьей охоты и проч., и проч., – превосходнейшие люди, согласны уделить делу один-два вечера, но вряд ли готовы оставить свои любимые занятия, чтобы сидеть до двух или трех часов ночи, обсуждая вопрос в деталях…»
Пиль знал лучше, чем кто-либо в Вестминстере, что именно детали лежат в основе политики. Администрация представляла собой в лучшем случае непрочную коалицию разрозненных интересов, представленных его сторонниками, бывшими сторонниками Каннинга и самого короля. «Я должен обходиться своими силами, – сказал Веллингтон своему коллеге, – и, если Господу будет угодно, несмотря на все мои страдания, мне удастся дать стране сильное правительство, и тогда я смогу с честью уйти в отставку». Что ж, даже самые благородные планы могут сорваться.
В это время произошло несколько удачных событий. Одним из самых важных среди них был успех вигов, сумевших весной 1828 года отменить Законы о присяге. Эти законы были приняты для того, чтобы исключить из правительства протестантских диссентеров. Ранее диссентерам разрешалось занимать государственные должности, только если они в определенные дни года принимали протестантское причастие. Теперь эти ограничения сняли, и государственные должности открылись для диссентеров наравне с приверженцами «установленной церкви». Это был еще один шаг по направлению к либерализации общества, но одно из его важнейших последствий – уничтожение ранее неразрывной связи Церкви и государства – стало очевидным лишь по прошествии некоторого времени. Многие считали, что за этим шагом обязательно последует католическая эмансипация. Предчувствие этого мы различаем в предсмертных словах Артура в «Королевских идиллиях» Теннисона: «Уходит старое и уступает путь новому; так Бог устроил мир…»[8]
Отменить Законы о присяге предложил один из наиболее выдающихся вигов того времени. Лорд Джон Рассел происходил из старинной знатной семьи вигов. Рассел был щуплым и на вид хилым человеком, однако обладал силой воли и духа, изумлявшими его противников. Он был невысоким, сухопарым и чопорным, с пронзительным голосом, перешедшим от него по наследству к следующим поколениям семьи. Его поместье в Пемброк-лодж описывали как «скромное, непритязательное, чем-то напоминающее улитку, которая прячется в своей раковине, полная высоких принципов и религиозных чувств». Он был возвышенным и уязвимым. Виктория считала его импульсивным, неосмотрительным и тщеславным. По сравнению с тем, что она говорила о других политических лидерах, это был почти комплимент. Впрочем, один иностранец отмечал «его очевидную холодность и безразличие к тому, что говорят другие». Кроме этого, Рассел обладал еще одной характерной чертой виговской аристократии – бесстрастным умом. Природный шарм и высокомерие, типичные для представителя твердо стоящего на ногах виговского рода, сочетались в нем с остротой и живостью ума, которые помогали ориентироваться в парламентской неразберихе.
Тогда же, весной 1828 года, сторонники Каннинга, движимые досадой или, возможно, недопониманием, массово покинули кабинет Веллингтона. Это был весьма впечатляющий исход. Виконт Мельбурн, виконт Палмерстон и лорд Дадли Уорд одновременно сложили с себя полномочия. По словам Дэвида Сесила, дело было так:
Все трое отправились повидать Хаскиссона, а затем, приказав своим кабриолетам медленно следовать за ними, двинулись в обратный путь в приятной тишине весеннего вечера, чтобы в последний раз обсудить дело. Уорд шел посередине. «Ну что же, – начал он, – теперь, когда мы одни на улице и нас не слышит никто, кроме постового, скажите мне без обиняков, что делать дальше – уходить или оставаться?»
«Уходить», – сказал Палмерстон, и Уильям [Мельбурн] эхом повторил его слова… Бедный Уорд сделал последнюю попытку: «Все же есть что-то в том, чтобы стоять рядом с таким великим человеком, как герцог». – «Что касается меня, – невозмутимо возразил Уильям, – я не считаю его таким уж великим человеком. Но это дело вкуса».
На следующий день все трое ушли в отставку.
Итак, к вящему восторгу тори, Хаскиссон, Палмерстон и другие видные парламентарии ушли. Веллингтон так мало возражал против их ухода, что стало ясно: он с самого начала не слишком хотел видеть их рядом с собой. Их выбрали, потому что они оказывали успокаивающее действие на Каннинга, но они не были незаменимыми. Теперь, когда за главных остались Веллингтон и Пиль, перед тори распахнулись врата рая.
В июне 1828 года Дэниел О’Коннелл победил на дополнительных выборах в графстве Клэр. Он был реформатором, а не революционером, но поддерживал любые меры, в перспективе ведущие к освобождению угнетенных народов. Однако он выступал против запугивания или агитации в Ирландии, считая, что свобода, полученная парламентским путем, надежнее и безопаснее, нежели освобождение посредством вооруженной борьбы. У О’Коннелла было три лица: одно, которое он открывал своим близким союзникам, другое, которое он позднее продемонстрировал палате общин, и третье, которое он показывал своему народу. В этом состояло его мастерство и сила как лидера. Для своего народа он был таким же уроженцем Ирландии, земляком с хорошо подвешенным языком, каких немало встречается среди завсегдатаев любого бара. В парламенте он говорил страстно и временами почти бессвязно. С друзьями он был любезным и даже вальяжным. Он мастерски умел менять настроение и образ.
Ему, как и многим другим, пришло в голову, что, хотя католики не могут сидеть в Вестминстере, ничто не мешает им баллотироваться на выборах. Он принял участие в дополнительных выборах от графства Клэр – и выиграл. Он не мог занять свое место в Вестминстере, поскольку он был католиком и не стал бы приносить служебную присягу. Что было делать? Если ему откажут в месте на парламентской скамье, это может обернуться мятежом и даже гражданской войной в Ирландии, но если он займет это место, то же самое может произойти в Англии, где король цеплялся, как утопающий за соломинку, за свою коронационную клятву. Чтобы переубедить его, понадобился бы дворцовый переворот. Если добавить к этому рой пылких реформаторов и вечно недовольную протестантскую толпу, бродящую по улицам Лондона, дилемма становится слишком очевидной. Никаких всеобщих выборов быть не могло, поскольку католики, следуя примеру О’Коннелла, избрали бы отряд католических депутатов, которым нельзя было разрешить занять свои места. Если Католическая ассоциация окажется сильнее традиционных земельных интересов, зачем нужна протестантская конституция, которая рычит и раскидывает лапами землю, но ничего не может сделать?
Веллингтон и король часами беседовали об этом, и король часто плакал от горя и гнева. Веллингтон окончательно убедился в том, что католическая эмансипация – единственный целесообразный и практичный путь. Волнение короля все возрастало, и он, как раньше его отец, оказался на грани безумия. Симпатизировавшая вигам леди Холланд слышала из надежных источников, что он был готов часами говорить на эту страшную тему «и каждый раз приходил в совершеннейшую ярость». Он угрожал удалиться в Ганновер и больше никогда не возвращаться в Англию. Он хвастал (или делал вид), будто сражался при Ватерлоо. После этого Веллингтон пришел к выводу, что король действительно сошел с ума. Веллингтон и Пиль знали, что игра окончена и что ирландцев больше нельзя не допускать в Вестминстер. Заламывая руки и вновь проливая слезы, 4 марта 1829 года король написал Веллингтону:
Мой дорогой друг, поскольку страна не может оставаться без управления, я решил склонить свое мнение к тому, которое, по мнению кабинета, отвечает непосредственным интересам страны. В этих обстоятельствах вы можете, с моего согласия, действовать сообразно предложенным вами мерам. Одному Господу известно, с какой болью я пишу сейчас эти слова. GR.
Это должно было быть сделано. И это было сделано. Король мог играть в управлении страной лишь незначительную роль.
Пиль представил Закон о католической эмансипации в марте 1829 года. Все знали, что это неизбежно: Пиль знал, что время католиков пришло, и Веллингтон тоже это знал. Пожалуй, теперь никакая сила на свете не могла их остановить. Визи-Фицджеральд, бывший противник Дэниела О’Коннелла в графстве Клэр, бил тревогу: «Я полагаю, их успех неизбежен – никакая сила на свете не может остановить их наступление. Может быть, вспыхнет восстание и вы осудите на смерть тысячи человек и подавите его, но это лишь отодвинет день неизбежного компромисса». К концу месяца закон прошел третье чтение и в апреле был принят палатой лордов с большинством в два голоса. «Артур [Веллингтон] – король Англии, – жаловался король, – О’Коннелл – король Ирландии, а я, вероятно, могу называть себя деканом Виндзорским». Король убедил себя, что за ним стоит почти вся страна. Многие думали, что двигателем либеральных перемен станет общественное мнение, но оно не отличалось устойчивостью и не имело единого голоса.
13 апреля билль получил одобрение короля, и католическая эмансипация вступила в силу. Приверженцы ранее гонимой религии отныне могли занимать любые государственные должности в Соединенном Королевстве, за исключением должности лорда-канцлера Англии и лорда-наместника Ирландии. Не все прошло гладко. Устранение неправоспособности католиков повлекло за собой резкое увеличение количества имеющих право голоса мелких землевладельцев в ирландских графствах. Имущественный ценз повысили с 40 шиллингов до 10 фунтов стерлингов. Двести тысяч избирателей лишились права голоса. Католическая ассоциация, из которой вышел Дэниел О’Коннелл, прекратила свое существование. Однако иезуитам запретили наставлять новообращенных в надежде, что влияние черных ряс само собой сойдет на нет.
Тем не менее можно было утверждать, что трехсотлетнему англиканскому господству пришел конец. Религия неуклонно отходила на задний план, и духовенство англиканской церкви примерило на себя профессиональную роль, переняв светские привычки и манеры юристов и представителей других профессий. Увеличилось количество дипломированных священнослужителей, а церковная власть перешла к Судебному комитету Тайного совета.
В процессе партия тори, изначально представлявшая собой антикатолический союз, сильно сократилась: до последнего сражались 173 члена палаты общин и сотня из палаты лордов. Впрочем, это был еще не конец. Дверь к переменам распахнулась, и вдалеке виднелась перспектива избирательной реформы и отмены Хлебных законов. Пиля и Веллингтона считали предателями. Вдовствующая герцогиня Ричмонд, убежденная, что Веллингтон «сбежал» от протестантов, словно крыса с тонущего корабля, заполнила свою гостиную чучелами крыс с именами министров. Веллингтон, умудренный жизненным опытом, считал, что суматоха вокруг католиков не стоит выеденного яйца, если они джентльмены. Словно повинуясь трубному гласу, шесть католических пэров впервые вошли в палату лордов. Дело было уже не только в партии, вигах или тори, – они добавили свои голоса к многочисленному хору, в котором каждый по-своему реагировал на злободневные вопросы. Политический обозреватель Чарльз Гревилл заметил: «Если у правительства нет оппонентов, у него не может быть и массы сторонников, на которых оно могло бы опереться». Чтобы еще усложнить картину, добавим: об администрации Веллингтона говорили, что это «правительство тори, придерживающихся виговских взглядов».
Эта неопределенность взглядов отчасти объясняет, почему Роберту Пилю в бытность министром внутренних дел удалось протолкнуть так много новых законов. В 1829 году он разработал законопроект об усовершенствовании столичной полиции, который в другое время вызвал бы массу вопросов. Ранее предполагалось, что за порядком в городе с населением более миллиона человек должны следить 350 полицейских. «Подумайте о том, что творится в Брентфорде и Дептфорде, где по ночам нет никакой полиции! – сказал Пиль Веллингтону. – Я думаю, мне не стоит утомлять вас дальнейшими объяснениями. Этому необходимо положить конец». Он организовал в высшей степени эффективный полицейский корпус из 2000 человек, разбитых на несколько дивизий под надзором двух магистратов, или полицейских комиссаров. Осенью 1829 года «пилеры», или «бобби», как их называли в честь их создателя, с дубинками и в цилиндрах на железном каркасе начали патрулировать свои участки. Нельзя сказать, что они пользовались большой популярностью, – многие подозревали, что они следят за бедными людьми, чтобы защитить собственность богатых. Когда одному человеку предъявили обвинение в убийстве полицейского во время беспорядков, присяжные оправдали его с формулировкой «обоснованное человекоубийство». Этот год принес много безумства и ажиотажа, и Пиль воспользовался открывшейся возможностью, чтобы заложить основы совершенно нового общества.
Мысль о регулярных полицейских силах была встречена с ужасом как посягательство на свободу личности. Если на вас напали, разве дело нельзя было решить шпагой или пистолетом? А если происходил несчастный случай, неизменно бдительная толпа тут же поднимала крик и шум. Неужели этого недостаточно? «Что? Англия ли это, страна мужественных сердец? – восклицал Коббет. – Не она ли смеялась над французами с их покорностью?» Но остановить утилитаристов, евангелистов и все прочие не терпящие возражений силы того времени было невозможно. В стране происходило слишком много беспорядков, и это требовало усиленных мер безопасности.
Проблемы католиков затмил продовольственный кризис. Торговцы, фабриканты, фермеры, рабочие – все по-прежнему ощущали на себе тяжелые последствия «нелегких времен», впервые заявивших о себе в 1826 году. Член парламента от Кента сообщал, что все фермеры в его графстве неплатежеспособны. Шелкопрядильщики Сомерсета были вынуждены жить на полкроны в неделю, которых с трудом хватало на соль и картофель. В марте беспорядки вспыхнули в Лондоне, вслед за этим в Манчестере, Эштон-андер-Лайне и других местах. В Стокпорте был зачитан Закон о массовых беспорядках. Пилю предстояло решить, в какой момент обдуманный нейтралитет правительства перейдет в вооруженное вмешательство. В 1830 году для продвижения социальных и политических реформ были созданы Манчестерский политический союз и Столичный политический союз. Забастовки, митинги за избирательную реформу и политическая активность представителей различных профессий не ослабевали в течение следующих двух лет. В конце года Томас Эттвуд учредил Политический союз Бирмингема и провел крупнейшее в истории собрание в закрытом помещении. В свете всего сказанного неудивительно, что имущие классы постепенно начали ощущать себя осажденными.
- Основание. От самых начал до эпохи Тюдоров
- Тюдоры. От Генриха VIII до Елизаветы I
- Мятежный век. От Якова I до Славной революции
- Революция. От битвы на реке Бойн до Ватерлоо
- Расцвет империи. От битвы при Ватерлоо до Бриллиантового юбилея королевы Виктории
- Новая эпоха. От конца Викторианской эпохи до начала третьего тысячелетия



