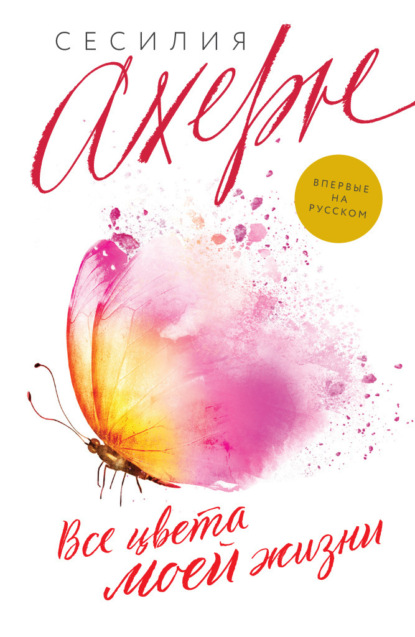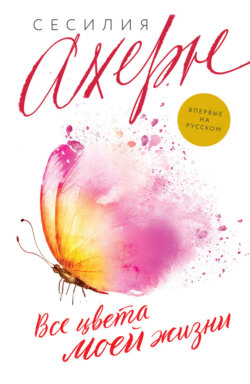
000
ОтложитьЧитал
Ее цвета прямо завораживают: глубокие лиловые и темно-синие как будто повторяют ее движения. Они крутятся, смешиваются, все время меняются, как будто болтаются в миске вместе с яйцами, мукой и молоком.
Она составляет список праздников, на которых можно будет развернуться, рассуждает о том, какие фургончики бывают, какой она выберет и что в нем поставит, где его купить и у какого знакомого. Стоимость фургона сравнивается со стоимостью всего, из чего делают блинчики; она подсчитывает, сколько понадобится яиц, сколько весят мука и сахар. И все это сравнивает с тем, какая будет прибыль. Она говорит и говорит со страшной скоростью. Разбивает еще яиц, замешивает еще теста, льет масло на сковороды. На лбу и груди у нее висят капли пота.
Я уже не облизываю тарелки и не пробую блинчики. Полночь, пятница закончилась; Хью ушел на работу, Олли лупит мячом по стенам. Она замешивает очередную порцию теста, открывает еще одну упаковку яиц. Мы с Олли выскальзываем из кухни. У Олли прихватило живот, и он засыпает на кушетке. Я сижу рядом с ним, а она все орудует на кухне, говорит сама с собой, вслух составляет списки. И вдруг эта горячка обрывается так же неожиданно, как началась. Она бросает свои миски и сковородки и в три часа ночи отправляется в постель.
Я надеюсь, что теперь утром она долго не встанет, но ошибаюсь.
Утром в субботу она отправляет нас с Олли в садик позади дома и запирает за нами дверь. Если мы хотим вести себя как скоты, то и обращаться с нами нужно как со скотами, – так она рассуждает. Я бы и не возражала, чтобы она меня отправила на улицу, только сначала дала бы сходить в туалет. Я сажусь на холодную бетонную ступеньку, прислоняюсь спиной к двери, поджимаю ноги, стараясь, чтобы ничего не вытекло.
Олли лупит и лупит футбольным мячом о стену.
– Можно поиграть? – спрашиваю я, чтобы хоть как-то оттянуть момент, когда напущу полные трусы.
– Нельзя. Это из-за тебя все.
Он так думает потому, что она это сказала, а он верит каждому ее слову.
Она громко стыдила меня: какая девочка в одиннадцать лет не соображает, чем помочь! Ее до глубины души оскорбило, что я не убрала за ней кухню. Миски, где она мешала тесто, валяются немытыми в мойке, на венчики налипло тесто, повсюду рассыпаны мука и яичная скорлупа, брызги теста на полу и даже на стенах, как будто здесь произошло массовое убийство блинчиков.
А я и правда хотела убраться в кухне, только потом, попозже. Рано она никогда не встает, особенно по субботам, и особенно после таких ночей, какая выдалась накануне. Я и не думала, что она вообще поднимется с постели. А она поднялась, выползла на лестницу и вышвырнула меня на улицу. Теперь она гремит в кухне, вокруг нее, как в стиральной машине или в сушилке, крутятся красные сполохи, а она бубнит себе под нос, спорит с кем-то воображаемым. Домашние дела всегда ее раздражают. Глажка, как ни мало она ею занимается, выводит ее из себя, красным пышет от нее, как паром. Красный, красный, красный: наш домашний дьявол…
Она швыряет блины прямо в мусорное ведро, и вместе с ними туда же летит ее хитроумный бизнес-план.
Олли берет с собой на улицу ее горячие, красные, сердитые цвета, поэтому я отхожу в сторону, чтобы он разрядился, надеюсь, что легкий ветерок унесет все это подальше. Все идет по нарастающей: ее ненависть становится его ненавистью, ее страхи – его страхами, ее ярость – его яростью. Ее грусть – его грустью. Такое всегда передается ему, и он жадно запихивает все это в себя, до самой последней частички. Ее потеря сегодня – это его очень большая потеря. Вчера вечером она поделилась с ним мечтой, приподняла занавес над тайной, дала ему заглянуть в новую жизнь, в новый мир, где они с мамой разъезжают в своем фургончике по музыкальным фестивалям в приморских городах, жарят блинчики, посыпают их шоколадом, режут клубнику, украшают сливками из баллончика, посыпают тертым сыром, протягивают покупателям, берут у них деньги. Одна из его любимых игр – «в магазин», и в торговле он, наверное, был бы в своей стихии. В свои восемь лет он бы с головой погружался в сладкое волнение, лез бы на стены, справляясь со всеми трудностями, а потом без сил валился бы на кушетку. Он, наверное, мечтал об этом, вскакивал с кровати, с нетерпением ждал, когда можно будет начать. А теперь у него ничего нет, у него все отобрали, безжалостно выбросили в мусорное ведро, потому что женщина, которая была здесь вчера вечером, ускользнула из дома посреди ночи, пока он спал. Я позволяю ему бушевать.
* * *
Я с Хью и Олли иду в парк. Олли нравится на игровой площадке, он, кажется, часами может не слезать с каруселей: опустит голову и, глядя на землю, крутится со страшной скоростью. Меня тошнит от одного того, что я на него смотрю. Я рада, что я сейчас с Хью. Рада, что иду рядом с ним; вокруг розовые облачка. Мы не говорим о том, что сегодня утром нас с Олли выставили на улицу, о вчерашней идее с блинами. Что толку… Мы вообще редко говорим о том, что творится дома, потому что это бесполезно. Мы просто радуемся, что вышли, что мы далеко от него. Олли все наматывает круги, опустив голову, волоча одну ногу по земле, и тут мы слышим: «Эй!»
Я поднимаю глаза. К Хью подходит симпатичная, улыбающаяся девушка.
– Привет, – говорит он, и в его голосе слышится что-то новое. – Элис, познакомься, это По. По, а это моя сестра Элис.
Она останавливается рядом с ним, так что ее плечо оказывается в его розовой зоне, как будто на них двоих надет один мохнатый розовый девчачий свитер.
– Я уже все о тебе знаю, школьный воин, – произносит она.
У нее это выходит мило. Почти как комплимент.
– Если она пропустит удар, ее тут же вышибут, – говорит Хью. – Один удар, и все.
Я отвожу глаза, оглядываюсь на Олли, но все время внимательно наблюдаю за Хью и По. Это не случайная встреча: тут все продумано. Они держатся за руки. Потом начинают целоваться. Она немножко стесняется меня, он говорит, чтобы она не переживала – ведь я не смотрю, – и для меня его слова звучат прямым приказом. И тут я замечаю у Хью новый цвет, который уже никогда не смогу забыть. Между ног у него вьется что-то темно-красное, и от этого мне неловко. А потом красное начинает полыхать.
Приходится отводить глаза. Иногда видеть цвета людей – все равно что видеть их голыми.
* * *
Я наблюдаю за тем, как мистер и миссис Муни разговаривают на парковке. Он – учитель истории, она – английского. Каждое утро они, муж и жена, вместе приезжают в школу. Вокруг нее все розовое, она милая. Когда она говорит, то посылает ему то розовое, что у нее есть, а сама для себя делает еще больше. Это розовое останавливается рядом с ним, как будто его окружает незримое силовое поле, не позволяющее ничему постороннему проникнуть внутрь. Цвету некуда двигаться, и он повисает в воздухе между ними. Он быстро чмокает ее в щеку и уходит, а она так и остается на парковке, и обратно к ней медленно плывет уже ненужный розовый цвет.
* * *
Летом с дядей Иэном, тетей Барбарой и их детьми, моими двоюродными братьями и сестрами, мы на несколько дней едем в Уэксфорд. Я сижу на теплом песке, закапываюсь в него ногами, слушаю, как бьются о берег волны, смотрю на радостных полуголых людей, легких, ярких, без одежды и груза мировых проблем на плечах.
Они вдыхают свет, а выдыхают тьму.
* * *
Она с Олли в кухне. Мне слышно, как они смеются. Звук для этого дома очень непривычный, необычный, поэтому я обращаю на него внимание. Это счастье, которому нечего стесняться. Я смотрю на них от двери, не хочу, чтобы она меня заметила, а то вдруг перестанут, и тогда все волшебство пропадет. Они что-то пекут. Но не с маниакальной суетливостью, как блины, нет, – все происходит тихо-мирно.
– Стукни о край и разъедини половинки, – спокойно говорит Лили.
Он разбивает яйцо и вбивает его в тесто. Потом макает в тесто палец и облизывает.
– Ах ты, жулик! – И она тоже макает палец в тесто и капает ему на нос.
Он хихикает.
Оба они розовые-розовые.
Как только цвета возникают вокруг нее, он всасывает их без остатка, тело его, точно пылесос, сосет из нее все, удерживает их вокруг себя, заворачивается, как в одеяло.
* * *
У нее бывают минутки доброты, хотя, по сути своей, человек она недобрый. Бывают и моменты заботливости, хотя человек она не заботливый. Одна хорошая минутка с ней не делает ее хорошей матерью, поэтому я никогда ее так не называю.
* * *
– Мне тут сказали, ты себе девушку завел, – как-то обращается Лили к Хью, и я вижу, как краснеют кончики ушей Олли: это, значит, он ей разболтал. Хью, наверное, тоже все понял, и, хотя это не бог весть какой секрет, все равно жить гораздо легче, если ничего ей не говоришь, а то она обязательно обернет твои слова против тебя же. – Соседи видели, как вы целовались взасос, говорили, что ты ей чуть голову не отгрыз.
Неправда. Это мне говорит ее кривая ухмылка, а не только цвета.
Хью водружает горку джема на ломтик хлеба, накрывает его другим ломтиком и откусывает добрую половину, не сводя с нее глаз.
– А мне ты когда собирался о ней рассказать?
Он молча показывает пальцем на набитый рот.
– Знакомить боишься? Что, стыдно меня показывать? Или дом, где живешь?
Он качает головой, не переставая жевать.
– Мне нужно посмотреть, что она собой представляет, раз уж твой папаша свалил. Пусть знает, кто в доме хозяин.
Пока она говорит, он откусывает еще один кусок.
– Когда же мы с ней встретимся?
Он глотает, мне интересно, какой будет ответ, но он задумывается. Я прямо вижу, как он все рассчитывает.
– А когда хочешь?
Меня это удивляет. Ее тоже. Она-то явно набивалась на спор. Да и всегда она набивается на спор, готовая отразить воображаемые атаки, а когда их нет, сразу попадает в тупик.
– Подумать надо, – все же не сдается она.
– Когда тебе будет удобно, – отвечает он.
– Как зовут?
– По.
– По? – переспрашивает она с кривой ухмылкой. – Она что, телепузик?
Раскаленная докрасна металлическая полоса проносится по груди Хью и исчезает.
– Я так и знал, что ты это скажешь, – произносит он с улыбкой.
Это снова отправляет ее в нокаут. В общем-то ясно, чем она может оскорбить. Поэтому его не собьешь: каждым своим ответом он окатывает ее, как ведром холодной воды. Я прямо слышу, как она шипит.
В рот отправляется последний кусок, и готово дело: как и положено мужчине, он покончил с бутербродом в три захода. Потом вынимает свои конспекты и раскладывает на кухонном столе.
– Скажешь мне, когда захочешь с ней познакомиться.
День она ему так и не называет, конечно. Это у Хью тактика такая.
* * *
Хью берет нас с Олли в парк все чаще, чтобы мы лучше познакомились с По. Мне всегда было интересно, как это – иметь старшую сестру, а эта, оказывается, хорошая. Мы никогда не жалуемся, но, хоть я и с Хью, я теперь как бы и не с ним. По теперь в центре его внимания. Все розовое-розовое двигается в ее направлении, а все красное, ярко-ярко красное, так и вьется вокруг его штанов. Мне уже не столько лет, чтобы качаться на качелях или кататься с горки, а Олли уже слишком рослый для всего этого. Он крутится себе на карусели, а я в одиночестве сижу на скамейке или качелях и просто смотрю.
Я стараюсь не глазеть на Хью и По, но у меня не очень получается.
Оказывается, я мало знаю людей, которые влюблены. Я-то думала, что таких много. Я много видела вроде бы влюбленных, но они совсем не похожи на Хью и По – эти-то все время то берут, то отдают цвета. Все поровну, ни один не жадничает, ни один не ставит преград, цвета идут туда и обратно… Смотришь на них и отдыхаешь. Иногда бывает вполне достаточно сидеть и смотреть на счастливых.
* * *
Мы с Олли играем в догонялки в парке. Олли страшно обижается, что не может догнать меня, что все время водит. Он бесится, раздражается, и я его не виню. Хью и По играют с нами, и мне нравится, когда они перестают целоваться и обращают внимание на нас. Олли все больше выходит из себя, потому что мы от него уворачиваемся, и веселые, подростково-невинные розовые тона переходят у него в кроваво-красные цвета ярости. Я это вижу. Я разрешаю ему догнать меня, пока он не вспыхнул металлическим оттенком и не испортил всю игру. Догоняя, я случайно наступаю на задник его туфли. Она снимается, и он бежит в одном носке по сырой траве; носок, конечно, намокает. Он стаскивает носок, прыгает обратно к туфле, громко орет на меня за то, что я сделала. И тут теряет равновесие и наступает босой ногой на траву. Злая красная дымка окутывает его голову и ползет вниз по телу, но становится бурой, когда спускается к ногам. Потом бурое начинает подниматься, перекрывает красное, а я стою и разинув рот смотрю на эту красивую игру цветов. Бурое захлестывает красное, как приливная волна, оттенок у него такой же, как у земли под травой, как будто оно прорастает прямо из этой земли. Когда бурое доходит ему до головы, он опускает глаза и смотрит на свои ноги, на сырую траву под ними. Он шевелит пальцами ног, загребает ими землю. И хохочет.
В следующий раз, как только он снова начинает проигрывать, я гоню его на улицу и говорю, чтобы он разулся. Он гуляет босиком, опустив голову, смотрит, как пальцы ног прячутся в траве, шлепает по грязи и только потом идет обратно домой.
Она смотрит из открытого окна и курит. Я жду, что она скажет что-нибудь хорошее, но она швыряет окурок и с грохотом опускает окно. Окурок падает в мокрую траву и с шипением гаснет.
* * *
Я обнаруживаю, что меня тянет радоваться. Но не открыто, не нараспашку, не так, чтобы в комнате была толпа громко ржущего народа, – нет, нехорошо, когда слишком много тел, а в перерывах между взрывами хохота слишком много чего происходит. Мне больше по душе спокойствие, уединение. Я часто прогуливаю школу, хожу в городской парк и смотрю, как какая-нибудь мама катает на качелях дочку, слушаю песенки, шутки, шелест чистейшего из цветов радости, вижу волну от одной к другой, и это так успокаивает, как будто смотришь на прилив. У девочки игрушка, розовая с золотым любовь к пустышке, которую она не выпускает изо рта. Мне хочется подсесть к ней, зарыться ногами в зараженный всякими бактериями песок песочницы и погрузиться в ее свет.
И тут до меня доходит.
Ведь, когда я так делаю, я его краду. А чужое счастье красть не стоит.
Нужно создавать свое.
* * *
Из-за того, что я плохо вела себя в начальной школе, в муниципальную среднюю школу меня не переведут. Взять меня соглашается только одна из четырех школ в нашем районе, да и то после того, как ее представитель посмотрит, что я собой представляю.
Я вежливо веду себя с экспертом по оценке поведения и думаю, что делаю все правильно. Проявляю доброту. Задаю вопросы о его семье, о том, куда он ездил в отпуск, вообще о всяком таком. Хью сказал мне, что это очень важно, и велел вести себя как следует. Мог бы и не напоминать. Я веду себя не как следует, только когда меня дразнят, когда сильно болит голова или когда люди выплескивают на меня свой цвет и я не могу от него отделаться.
– Как мама, придет? – спрашивает он.
– Нет. Я не знала, что ей тоже надо.
– Ей отправляли анкету. Ну ладно, давай начнем.
Он вынимает несколько листов бумаги. Поведение оценивается вот так, на бумаге; ответы нужно помечать галочками, и мне кажется неправильным, что я пришла, а она нет.
* * *
– Где были?
Все начинается, как только мы входим. Я была с Хью и По, прицепилась к ним как репей, мне было очень хорошо с ними, и я совсем не чувствовала себя лишней. Она сидит на кушетке, лицом к двери и как-то слишком спокойно ждет нас. Радость, веселье, легкость оттого, что всю субботу я провела вместе с Хью и По, исчезают, как только мы открываем дверь.
Красный туман вокруг ее головы клубится, как извержение вулкана.
Он стремительно летит к Хью, и я делаю шаг, чтобы встать у нее на пути и защитить брата, но цвет молниеносно – прежде чем я успеваю подойти – отскакивает от груди Хью, как от щита, и проходит прямо у него над головой.
Как мой брат это сделал?
– Ты еще не вставала. Не хотелось тебя беспокоить, – говорит он, бросает сумку на пол и подходит к Олли. – Олли, привет, ты поел?
Сейчас четыре часа дня. Олли не спит с семи утра, смотрит телевизор.
– Да, бутерброд себе сделал, – отвечает он; вот уж кто никогда не подведет Лили.
– Хлеба нет, – говорю я, чтобы помочь ему выкрутиться; необязательно врать, мы и так знаем, что ты голодный, но он сердито смотрит на меня.
– Я собиралась сходить за мясом, – сердито фырчит Лили. Она, как может, защищается от Хью, будто не хочет, чтобы он плохо о ней думал, ведь и она прекрасно знает, что он лучше всех нас, вместе взятых.
– Хорошая мысль, – отвечает он. – Хочешь, я сам схожу?
– Сходи.
Красный туман потихоньку возвращается в кратер, откуда вырвался. У него опять получилось изменить ее цвет; ну вот как так? Появляется зеленый, как будто в воде растворяют зеленую краску. Плюх… Плюх… На вид – прямо бактерия. Темно-зеленый, почти черный, но все же не черный. Нет, совсем не черный. Черный грозил появиться, но пока его нет; не представляю себе, что будет в тот день, когда он появится, но очень, очень боюсь.
– Можно мне с тобой? – спрашиваю я Хью, нервничая от того, что сейчас будет.
– Нет, – отрубает она. – Олли сходит. Держи. – И она протягивает ему двадцать евро. – Мне бургер из бездрожжевого теста и чипсы с карри.
Я жду, что теперь она поднимется к себе и снова ляжет, но она так и остается на диване, только переключает канал с мультиков на какую-то викторину. Уходя, Олли не сводит с меня глаз, злится, что я остаюсь, а его куда-то отправляют. Он, в отличие от меня, не чувствует, что я остаюсь не просто так и что ничего хорошего меня сейчас не ждет. Я осторожно сажусь на край кушетки и замираю.
Горчично-желтый. Зеленый, цвета соплей. Сейчас на меня обрушатся сарказм и злоба.
– Тут тебе из новой школы письмо прислали, – говорит она и взмахом руки показывает на разорванный конверт на щербатом столике у входной двери. Никто не додумывается его подвинуть; когда дверь открывается, он каждый раз получает по полной программе.
– Из какой? – спрашиваю я в надежде, что прошла тест на поведение и, значит, пойду в нормальную школу.
– Где дураков учат, – отвечает она и закуривает. – В сентябре пойдешь.
* * *
Красиво бывает, когда цвета меняются вслед за скачками ее настроений. Но только если не из-за меня. Или если у меня получается взглянуть на нее как будто со стороны. Как будто я сижу в первом ряду на волшебном представлении и смотрю, как она переходит от горчично-желтого к металлически-красному. Это перевоплощение. Оттенки цвета красивы. Но нет красоты ни в его сути, ни в ощущении, ни в виде, ни в энергии. Ничего, в общем, красивого в нем нет.
* * *
В школу мне осталось ходить всего два дня, своих одноклассников я больше никогда не увижу, и от этого немного грустно. Правду сказать, я почти со всеми ними передралась – Дженни получила фонарь под глаз, Фарадж – банкой колы по голове, и много чего еще, но это все была самозащита. Нет, конечно, меня предупреждали, – и чаще всех Хью, – и если бы я понимала, чем все это кончится, что меня вышвырнут из этой школы и посадят куда-нибудь вроде тюрьмы, то тогда бы я постаралась в упор не видеть своих обидчиков. Но я-то знаю, что бывает, когда не обращаешь на такое внимания и не защищаешься. Только хуже становится. Люди начинают думать, что ты не умеешь постоять за себя, и начинают видеть в тебе что-то вроде груши для битья. С самого начала нужно показывать, что с тобой этот номер не пройдет.
Я бы поступала так и дома, с Лили, только не помню, когда это началось; так было всегда, и все тут. Мне никогда не хотелось, чтобы в школе было как дома. Там, в школе, было мое время, время быть самой собой, правда, я не уверена, что мне нравилась та, школьная я. Рада, что за моими темными очками никто не видит моих слез.
Сегодня я не могу отвести взгляда от миссис Муни и цветов вокруг нее.
Когда мы выходим из класса, я приостанавливаюсь у стола своей учительницы и говорю: «Поздравляю».
Она смотрит на меня, удивляется, смущается, и мне ясно, что ей совсем ничего не ясно. Она еще ничего не знает. Но на следующий день, наш последний день перед летними каникулами и мой последний день в этой школе, она просит меня выйти вместе с ней из класса. Весь класс в один голос произносит «ого!». Джеймс строит мне дурацкую рожу. Я швыряю в него свой компас. Он больно ударяет его даже через джемпер, и вид у Джеймса становится такой, будто он вот-вот заревет.
Она закрывает за собой дверь, садится на скамейку у стены и негромко, почти шепотом, спрашивает:
– С чем ты меня вчера поздравляла?
– С тем, что у вас будет ребенок.
– Откуда ты знаешь?
– Знаю, и все.
– Мне ты можешь сказать, Элис. Ну скажи, откуда?
– По-моему, от кого-то слышала.
– Вчера я и сама этого не знала, – мягко произносит она. – Уж можешь поверить.
А я и правда верю миссис Муни. Она из тех немногих учителей, которые разрешают мне сидеть в классе в темных очках, потому что у нее самой брат ужасно страдает от мигреней.
– Я вижу цвета ребенка.
Золотой. Вокруг живота у нее, как корона, сияет чистый золотой свет. Такого ни у кого нет, по крайней мере, у тех, кого я видела до сих пор. Разве что на совсем маленьких детях, на тех, кому всего несколько дней или недель от роду, когда их провозят мимо меня в колясках. Вот тогда я вижу, как вокруг их головок, как корона, сверкает золотое сияние. Родильные отделения мне представляются чем-то вроде золотохранилища.
Миссис Муни обдумывает то, что я ей сказала.
– У меня такое бывает, что я вижу разные цвета, – произношу я быстро и успеваю пожалеть об этом. – Вот поэтому я и хожу в темных очках.
Она изучающе смотрит на меня и спрашивает:
– Ты кому-то еще об этом говорила?
– Брату, Хью.
– С сентября ты ведь в «Новый взгляд» будешь ходить, кажется?
– Угу. Школа для таких, кто окна лижет.
– Не надо так говорить.
– Это Фарадж сказал, – говорю я и заглядываю в класс. – Вот банкой и получил.
– Она не «для таких». Это специальная школа-интернат, Элис. Там помогают детям с расстройствами поведения, но к тебе это не относится. Теперь понятно – с тобой все время что-то происходит, потому что у тебя дар.
– У меня проклятие.
– Нет, думаю, что это дар, – говорит она и улыбается так, что вгоняет меня в краску. – Если бы ты вчера мне ничего не сказала, я не стала бы делать тест. Я уже давно этого хочу.
– А-а…
– В той школе с тобой будут работать, помогут справиться со всем этим, поэтому не сердись на тех, у кого не хватает ума. Жаль, что здесь тебя никто так и не понял как следует.
И теперь я не знаю, как мне быть. Кроме Хью, который все всегда понимает, я не помню, чтобы меня хоть кто-нибудь пожалел. Или хотя бы сделал вид, что понимает. Этот разговор приоткрывает мне, что есть мир, который может для меня существовать, что есть люди, которые могут по-настоящему меня выслушать и понять. Очень досадно, что не все такие, как миссис Муни.
Она откидывается на спинку скамейки, довольно улыбается.
– Ну а еще что-нибудь ты видишь?
Я задумываюсь и произношу:
– Он вас не любит.
– Как? – говорит она, и улыбка гаснет.
– Я вижу, что вы отдаете мистеру Муни все свое розовое, а он не берет. И оно отскакивает обратно к вам.
Выражение лица у нее такое, что, наверное, лучше бы я промолчала, но ведь так и есть, и в глубине души она, наверное, сама это чувствует. Так пусть лучше узнает сейчас, пока не появились близнецы.
* * *
Хью держит в руке письмо из школы.
– Возмутительно!
Красный туман висит над макушкой головы Лили, как будто она вулкан, извергающий горячую лаву. Я смотрю на Хью. Красный надвигается на него, отскакивает и ползет на меня. Я нагибаюсь, уворачиваюсь, увиливаю. Смотрю на Олли. Он впитывает красный; ее гнев – это теперь его гнев.
– Скорее бы эта психованная свалила! – вопит Олли, обращаясь к Хью.
– Нормальная она! – отбивает атаку старший брат.
Хью редко спорит с ней. Он, кажется, вообще мало о ней думает, не дает ей много места в своей жизни. Он всегда занят, у него всегда есть что делать, вместо того чтобы препираться с ней, а вот в моем мире больше ее ничего нет, она для меня – препятствие ко всему. Я обхожу ее стороной, не высовываюсь, стараюсь сделаться меньше, создаю свой собственный мир. А у Олли весь мир наполнен ею, для себя самого он совсем не находит в нем места.
Но такого цвета я у нее еще не видела. Рядом с вполне понятным цветом красной лавы, цветом гнева, возникает туча непонятного темного цвета: то ли зеленого, то ли бурого, то ли черного. Она ползет, как слизняк, закручивается, как торнадо. Ее медлительность беспокоит. Она как будто втягивает в себя все краски окружающего мира: маленькие, спрятанные в большой массе, мазки цветов и свет, обещания счастья, хорошие шутки – все втягивается в эту воронку. И она все время набирает скорость.
– Хью… – произношу я, предупреждая его.
Мы в кухне. Она готовит ужин. В сковороде что-то плюхает и пузырится. Сегодня она действительно постаралась. Она встала с кровати. Из всех дней, когда Хью дает ей отпор, этот, может, и не самый подходящий. Нам нужно бы поздравлять ее, дать почувствовать, что все-таки стоит подниматься каждое утро, но сейчас Хью не в своем обычном миролюбивом настроении. Он защищает меня, но напрасно, потому что в ней что-то закипает, и я хочу, чтобы ничего не вышло наружу.
Хью может поставить этому заслон.
Я могу от этого увильнуть.
Но Олли вберет это в себя.
– Они поговорили с учителями, поговорили с ней. Вот так и решили. Не злись на меня.
– Кто это «они»?
– Врачи.
– Не было там никаких врачей!
– Ну психологи, какая разница, – говорит она, рассердившись оттого, что не знает и поэтому попалась. – Школа тесты проводила.
– Они с тобой говорили?
– Говорили.
– Нет, не говорили – ты же не пришла.
– Они мне звонили. Не все ли равно?
– Кто – они? – повышает голос Хью.
– Мужчина, как зовут, не помню.
– Что ты ему сказала?
– Сказала, чтобы учителей послушали. Учителя лучше знают, так ведь?
– Они вообще ее не знают. Тебе полагается ее защищать – это твое дело. Ей всего одиннадцать лет.
– Скоро двенадцать, – отвечает она, помешивая в сковородке и внимательно глядя в нее, как будто вдруг обнаружила там ответы на все вопросы, – Она буйная, сам знаешь. Совсем не миленькая младшая сестренка, которую ты всегда защищаешь. В школе детей лупит – надавала недавно кому-то из девчонок Уорд, а с этой семейкой лучше не связываться. Из-за нее мы еще нахлебаемся.
– Она защищалась. А Олли? Ты хоть знаешь, что он запустил в стену класса маркерами, когда ему сказали, что он раскрашивает не по контурам? Ты об этом слышала? Меня вызывали в школу, чтобы я в кабинете директора помог его успокоить. Они ведь знают: сколько тебе ни звони, ты все равно не придешь. Чем он живет? Тебе наплевать? Не замечаешь? А вообще задумываешься, почему это происходит?
Циклон становится серовато-багрянистым. Сейчас разразится буря, и мне это совсем не нравится. Пока она на уровне ее талии, но не стоит на месте, а, крутясь, поднимается вверх, вьется спиралью вокруг нее, расползается во все стороны.
– «Новый взгляд», учреждение альтернативного школьного образования… – зачитывает он письмо вслух. – Предоставляет образовательные услуги детям с проблемным поведением, причиной которого могут быть значительная эмоциональная неустойчивость или психическое расстройство». Проблемное поведение… Да не проблемное оно у нее! – говорит он, помахивая письмом в воздухе и явно не веря ему.
Она противно улыбается – становятся видны ее желтые, неровные зубы – и произносит:
– Это ты сейчас паникуешь. Ты ведь боишься: если Элис уйдет, ты не сумеешь уехать учиться в университете. Кстати, ты уже сказал ей, что уезжаешь?
Я недоуменно уставляюсь на него, и ей это очень нравится. Горести и потери других людей подпитывают ее. Это заметно сразу, потому что цвета быстро меняются, становятся ярче, сильнее. Смех ее становится жестоким, циклон змеей вьется вокруг нее, обвивает голову, спускается по груди к животу, ползет ниже, по ногам, к ступням, затягивает ее всю, целиком.
– Пока нет, не до этого было.
– Хью перебирается в Кардифф, Элис, – язвительно произносит она. – В Уэльс. И на выходные не будет у нас появляться.
– Уезжаешь? – спрашиваю я Хью.
А надо было догадаться. Ну конечно, надо было догадаться. Ему восемнадцать лет, в этом году он окончил школу и, хотя она очень хотела, чтобы он сразу шел работать, он очень усердно учился, чтобы поступить в университет, работал в баре, копил деньги, ведь его мозг – это билет, чтобы выбраться отсюда. Пока я занималась саморазрушением, он обдумывал план побега. Без меня.
– Как только получится, я вас с Олли к себе заберу, – тихо говорит он, как будто не хочет, чтобы она его подслушала.
Она хохочет:
– Нечего лапшу на уши вешать! Папаша твой говорил то же самое, ну и что – с тех пор как он нас бросил, ты хоть что-нибудь о нем слышал?
Я в смятении; жизни без Хью я себе не представляю. Пусть передо мной маячит эта страшная школа, где исправляют поведение, но я-то думала, что по выходным буду приходить домой, к нему, и он сумеет приходить туда ко мне, а теперь что же – он уезжает куда-то далеко и никогда-никогда не придет? Я чувствую, как в груди разливается паника. Она хохочет, помешивает варево, радуется, что перестала быть мишенью его гнева, что сумела отразить его. Она взяла ситуацию под контроль и обернула ее против нас. Теперь циклон захватил ее полностью и начинает тянуться к Хью. Я в ужасе смотрю на это.
– После поговорим, – говорит он мне, стараясь быть поласковее, но от него так и пышет гневом. Его оранжевый переходит в красный, розового совершенно нет, но это его эмоции, а не ее.
Не знаю, что происходит с ней, но такого я никогда еще не видела. Она становится похожа на спрута и грязно-зелеными, серо-черными и лиловыми щупальцами начинает прощупывать все вокруг себя. Это безумно страшно. Меня трясет, я боюсь, как бы не вырвало. Она не выглядит настоящей, она не похожа на человека. А Хью все спорит; тихий, ласковый, дипломатичный Хью понятия не имеет, что она замышляет.
Щупальце торнадо задевает его по лицу.
– Хью, отойди, – встревоженно говорю я.
– Куда? – спрашивает он, заметив мой страх. – Что такое?
– Посмотри на нее, – шепчу я.
Щупальца хлещут, лижут его по лицу, как языки пламени.
Я шарахаюсь в сторону, опрокидываю стул и ударяюсь о стену.
– Элис, в чем дело? Цвета?
Я стою у стены. Спина прижата к ней, глаза округлились от ужаса.
– Элис, спокойно. Дыши глубже. Вдох, выдох…
– Значит, говоришь, нормальная? – произносит она.
Длинные, черно-лиловые языки-щупальца теперь везде; они лижут меня, окружают со всех сторон. Им все известно о моих увертках, они дотянулись до каждого угла.